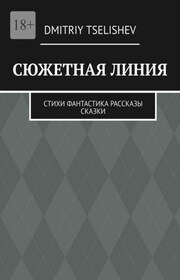Семена бессмертия Айрат Хайруллин
Глава 1. "Профессор и мужик"
История любит генеральные уборки. Раз в поколение она сметает к чертям накопленные условности, смывает позолоту с фальшивых авторитетов, сбрасывает с пьедесталов тех, кто привык к поклонению. И тогда выясняется простая истина: профессор без кафедры – просто человек с больными ногами, а мужик без поля – философ поневоле.
Война – лучший социолог из всех, что знало человечество. Она не читает дипломы и не интересуется родословными. Просто берет людей и трясет, как кости в стакане, пока не выпадет та комбинация, которую никто не планировал.
Иван Артемьевич Соколов прожил полвека в мире Слов с большой буквы. Древнегреческие тексты были ему ближе соседей по коммуналке, а латинские изречения – понятнее разговоров с дворником. Он мог часами рассуждать о нюансах перевода одной строчки Эсхила, но терялся, когда тот же дворник спрашивал, во сколько убирать снег.
Тридцать лет кафедры классической филологии. Тридцать лет уважения, граничащего со страхом. Студенты боялись его экзаменов, коллеги – язвительности, деканат – принципиальности. Соколов принадлежал к тем людям, которые никогда не идут на компромиссы, ибо уверены: истина дороже комфорта.
– Невежество не порок, а несчастье, – любил повторять он, постукивая указкой по доске. – Но нежелание избавиться от невежества – уже порок.
Квартира на Арбате напоминала филологический музей: стеллажи до потолка, фолианты в кожаных переплетах, бюсты античных мыслителей. Жена Александра Петровна давно смирилась с тем, что мужа больше интересуют мертвые греки, чем живая супруга. Детей не было – Иван Артемьевич считал, что воспитание чужих детей в университете отнимает достаточно сил.
Когда началась война, профессор отнесся к ней как к досадному историческому эпизоду, нарушающему нормальное течение научной жизни. Он искренне верил, что мир вращается вокруг культуры, а все остальное – временные неприятности.
– Варвары приходят и уходят, – говорил он жене, – а Софокл остается.
Остался бы. Если бы осколок в октябре сорок первого не снес Ивану Артемьевичу полжизни вместе с обеими ногами.
Но война с профессором еще не закончила. Ранение оказалось лишь первым актом долгой трагедии. Врачи спасли жизнь, но борьба за то, что от нее осталось, растянулась на годы. Гангрена, сепсис, бесконечные операции – одну ногу ампутировали сразу, вторую пытались сохранить почти два года. Месяцы в реанимации сменялись неделями в хирургии, передышки – новыми кризисами.
Александра Петровна не выдержала. Не смерти мужа – к ней она была готова. Но не выдержала этого медленного умирания по частям, когда каждый день приносил либо ложную надежду, либо новое отчаяние. В сорок втором году она просто исчезла из госпиталя, оставив записку: «Прости. Не могу смотреть, как ты мучаешься.» Позже узнали – уехала к сестре в эвакуацию, там и сгинула в каком-то тифозном бараке.
Иван Артемьевич принял уход жены с философским спокойствием раненого зверя. Что такое предательство близкого человека для того, кому каждую ночь является смерть и каждое утро – новая боль? Просто еще одна потеря в длинном списке потерь.
К сорок четвертому году медицина наконец сдалась. Вторую ногу ампутировали в январе, когда стало понятно: либо это, либо полное поражение костей. Профессор встретил известие с облегчением человека, который слишком долго ждал приговора.
– Наконец-то, – сказал он хирургу. – А то я уже думал, что буду умирать вечно.
Петр Андреевич Глушков о смысле жизни не думал – некогда было. В сорок лет за плечами простая биография: родился в деревне Красный Яр, женился на Марьюшке в семнадцать ее лет, растил сына Кольку. Пахал, сеял, жил.
Пётр принадлежал к тем, кого называют солью земли – не потому, что особенно хорош или плох, а потому что без таких земля перестает быть землей, превращается в грязь под ногами. Он знал, когда сеять рожь и как лечить коров, умел руками делать все необходимое для жизни и ничего лишнего.
Читать выучился в тридцать, когда в деревню приехала учительница и открыла ликбез. Ходил не от жажды знаний – жена настояла: «Стыдоба какая, Петенька, председатель колхоза неграмотный!»
Председателем стал не по своей воле, а по воле партии и народа. Хозяйство вел честно, людей не обижал, планы сдавал без приписок. В районе уважали за справедливость, в деревне – за то, что всегда можно было прийти поговорить по душам.
– Петр Андреич наш, не зазнался, – говорили мужики.
Не зазнался бы. Если бы война не забрала сначала сына, потом жену, а затем саму деревню вместе с верой в справедливость.
Сын погиб под Москвой в первые месяцы. Восемнадцать лет, срочная служба, ставшая последней. Похоронка пришла в декабре, коротко и ясно: «Красноармеец Глушков Николай Петрович геройски погиб в боях за Родину».
Жена не пережила. Не умерла – просто ушла в себя и не вернулась. Перестала говорить, есть, смотреть на мир. В марте сорок второго Пётр хоронил и ее.
А весной немцы дошли до их района. Деревню жгли дважды: сначала наши отступая, потом немцы закрепляясь. Пётр прятался в лесу с остатками стада и думал, что жизнь – штука несправедливая. Не злая и не добрая. Просто несправедливая, как погода.
Когда наши вернули деревню, от нее остались печные трубы да колодец. Людей – человек двадцать из двухсот. Пётр смотрел на пепелище и понимал: тот мир, в котором он жил, кончился навсегда.
Партизанил до сорок третьего. Не от героизма – от злости. Зло брало, когда видел, что творят с землей, с людьми, с тем, что строили деды. Воевал умело, безжалостно, без иллюзий. Знал: победим или не победим, а прежней жизни все равно не будет.
Подорвался на мине в августе сорок третьего. Левую ногу оторвало выше колена начисто – хирурги только культю зашили. Правая была раздроблена до кости, но врачи упорно боролись за нее почти полгода. Операция за операцией, осколок за осколком, попытка за попыткой собрать воедино то, что взрыв разбросал в мелкую крошку. К январю сорок четвёртого стало ясно: ногу сохранили, но какой ценой. Ступить на нее нельзя, согнуть в колене – с болью, а боль эта никогда не проходит. Железо так и осталось в костях, врачи руками разводили: достать нельзя, задели бы нерв.
«Живой останется, – утешали, – и на том спасибо».
Пётр не видел причин для благодарности. Лучше бы обе сразу отрезали – легче было бы смириться. А так каждый день надежда и каждый день разочарование. Нога есть, но не нога. Ходить можно, но не ходьба. Не калека, но и не человек.
В госпиталь попал без сознания, очнулся с одной ногой и пониманием, что вторая никогда не будет прежней. Желание жить дальше исчезло вместе с кровью, которую не успели остановить.
Госпиталь в подмосковных Химках был одним из тех мест, где война показывала истинное лицо – не героическое с плакатов, а человеческое. Уставшее, искалеченное, но упрямо цепляющееся за жизнь.
Палата номер семь рассчитывалась на четверых, но лежало двое: профессор Соколов и председатель Глушков. Остальные койки пустовали – не хватало больных такой тяжести, чтобы держать их здесь долго. Обычно люди либо выздоравливали и уходили, либо умирали.
Эти двое застряли между жизнью и смертью.
Первую неделю молчали. Пётр лежал лицом к стене с тем упорством, с каким раньше пахал. Иван Артемьевич читал – медсестра Клава приносила книги, и он читал все подряд: от «Войны и мира» до брошюр о картофелеводстве.
«Читаю – значит, живой», – думал профессор.
Но чтение не спасало от мыслей. Что дальше? Инвалидность, пенсия, жалость окружающих? Кафедра место сохранит, коллеги будут сочувствовать, студенты – жалеть. Но кто захочет слушать о красоте античной поэзии от человека в коляске?
«Жалкое зрелище – калека, рассуждающий о гармонии».
За три года борьбы со смертью Иван Артемьевич успел передумать многое. Античные герои, о которых он рассказывал студентам, казались теперь не литературными персонажами, а товарищами по несчастью. Эдип, потерявший зрение. Филоктет с гноящейся раной. Они тоже были калеками, но это не лишало их величия. Может быть, наоборот – придавало?
Пётр думал проще и страшнее: зачем жить, если некому? Сын мертв, жена мертва, деревня сожжена. Дом стерт с лица земли, друзья погибли или разбросаны. Кому нужен калека без семьи и корней? Да еще и не просто калека – урод какой-то. Одной ноги совсем нет, другая есть, но мучит день и ночь. Не сидеть толком, не лежать, не стоять. Что это за жизнь?
«Пора покончить с этим», – думал он, засыпая с этой мыслью.
Но утром просыпался снова. Сердце стучало, легкие дышали, желудок требовал еды. Организм жил своей жизнью, не спрашивая разрешения.
Первый разговор случился из-за каши.
Пётр третий день не ел. Не голодовал – просто не было сил поднести ложку ко рту. Медсестра забеспокоилась, врач пригрозил принудительным кормлением, но Пётр лишь отворачивался к стене.
А Иван Артемьевич наблюдал. Тридцать лет он изучал человеческую природу по книгам, а тут она была рядом – живая и умирающая.
«Интересно – это он смерти ищет или смерть его? И есть ли разница?»
На четвертый день, когда медсестра оставила нетронутую миску на тумбочке, профессор не выдержал:
– Слушайте, если решили покончить с собой, делайте это менее демонстративно. Иначе получается, что я соучастник самоубийства.