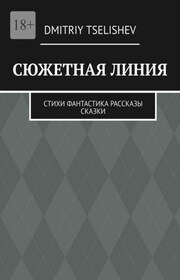А как у нас дела насчет картошки? Или история Music Club Н. Юдина
Издательство «Перо», 2025
© Юдина Н. В., 2025
Часть 1
Если сейчас спросить среднестатистического студента, а знает ли он, что такое картошка, если это не корнеплод, то далеко не все вам ответят. Да, некоторые слышали о таком явлении от своих родителей, если в семье доверительные отношения, а сами родители прошли через это. А вот во времена 70-х-80-х, каждый студент знал, что картошка – это то, что его неминуемо ждет.
Наташка услышала о картошке даже раньше, чем наступил 70–й год. Родители смотрели КВН. Тогда передач по телевизору было немного, они были событием, начинались только к вечеру и не очень поздно заканчивались. Никаких круглосуточных каналов не было. Да и слово канал было известно, разве что, в сочетании Беломорканал, канал имени Москвы, то есть к телевидению это не имело никакого отношения. В телевизоре были программы. Черно-белые, не многочисленные, но весьма интересные. Вся семья собиралась смотреть «Клуб кинопутешественников» с ведущим Шнейдоровым, а потом с Сенкевичем, откуда возникло выражение, часто употребляемое даже нынешней молодежью, думаю, не подозревающей о его происхождении: «Видеть мир глазами Сенкевича». О каком Сенкевиче идет речь, мало кто понимает. В те времена железный занавес отделял СССР от прочих стран, и возможность путешествовать ограничивалась курортами Краснодарского края, Крыма и Кавказа, а также поездками по Золотому Кольцу России. Путешествовали с палатками по средней полосе России и даже добирались в Крым, с байдарками перемещались по рекам Карелии, любили культурно отдыхать в Прибалтике с ее янтарем, соснами на Рижском взморье, рижским бальзамом и почти европейскими кафе, ну и в Паланге. Зарубежные страны для 90 процентов населения можно было увидеть только через Клуб кинопутешественников, глазами Сенкевича. Эта фраза прозвучала в какой-то юмористической передаче и полетела в широкие массы.
Смотрели новости, программу «Время». Каждый день в 21 час слышались всем знакомые позывные, после детской передачи «Спокойной ночи малыши». После программы «Время» смотрели раз в неделю «Ираклий Андроников рассказывает», а до нее «Кабачок 13 стульев» или Кинопанораму, ну и, конечно, КВН.
Во время передачи родители смеялись над шутками студентов-технарей из популярных команд, КВН уже тогда вел молодой Маслюков. Наташка, учась в начальной школе, не все понимала, но ей было весело, и любовь к юмору и всяческой самодеятельности зародилась и осталась на всю жизнь. Запомнилась и песня-частушка, которую студенты распевали на сцене: «А как у нас дела насчет картошки, она у нас становится на ножки. Ну слава богу, я рад за вас…»
В тот период в стране шел вечный бой за урожай. Урожай, как правило, был богатый, но потом почему-то погибал, и за него надо было биться. На эту битву кидали целые научно-исследовательские институты, советскую интеллигенцию, студентов и даже школьников. Бой за урожай начинался обычно с местных овощных баз, где все вышеперечисленные бойцы неумело боролись с гнилой капустой, тухлым луком, прокисшими помидорами и прочими друзьями Чиполлино. Так было в течение долгих лет в стране вечнозеленых помидоров.
Дожив до студенчества, Наташка не избежала испытания Картошкой. После десятого класса она поступила в престижный тогда институт иностранных языков, ИнЯз, на факультет французского языка. Институт назывался МГПИИЯ (Московский Государственный Педагогический Институт иностранных языков) им. Мориса Тореза. Сейчас это университет, он уже давно не тот, каким он был в те времена. И называется как-то грустно МГЛУ.
В семидесятые годы институт имел 4 факультета, три из которых были сугубо женскими: английский, французский и немецкий. Факультеты отличались каждый своими характером. «Немцы» – организованы, методичны, про них хотелось сказать, что они ходят строем. Французы – более легкомысленные. Немногочисленные мальчики французского факультета блистали в капустниках и местной художественной самодеятельности, многие потом осели на радио, в частности на «Эхо Москвы» и представляли творческие профессии. Англичане же являлись самыми многочисленными и мажористыми.
Наряду с этими женскими факультетами был еще переводческий, с зеркально противоположной картиной: единичные девочки среди мальчишеских групп. Для поступления на переводческий девочкам надо было получить особое разрешение. Языки тут были самые разнообразные от вездесущего английского до португальского. Итальянский, испанский, шведский, и банальные английский, французский и немецкий были как первыми, так и вторыми языками для изучения.
Факультеты, хоть и принадлежали к одному институту, но практически не пересекались. Переводчики и англичане всегда учились на Метростроевской 38, ныне Остоженке в старинном здании бывшего Императорского московского коммерческого училища. После революции 1917 года до въезда сюда в 1939 году 1-го МГПИИЯ в здании поочередно размещались Пречистенские рабочие курсы, Рабочий факультет им. Бухарина, Пречистенский практический институт, две школы.
В начале Великой Отечественной войны в здании МГПИИЯ на Остоженке формировалась 5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района Москвы. В память воинов-ополченцев, среди них были и сотни инязовцев, в 1967 году на площадке перед зданием была установлена стела. У стелы, на День победы проходили торжественные сборы студентов с возложением цветов и иногда даже выступлением ректора.
Позже институт еще отхватил себе соседнее здание на Метростроевской, бывший жилой дом. Дом расселили и, как могли, переделали в учебное помещение. В период учебы Наташки оно было еще в плачевном состоянии, аудитории походили на обычные комнаты в квартире, маленькие и обшарпанные. Но позже, когда Наташка уже закончила учебу, здание отреставрировали, привели в порядок и превратили в нормальный учебный корпус.
На заднем дворе исторического здания в 1971 году был построен новый кирпичный корпус на 7 этажей. Каждое здание именовалось корпусом с определённой буквой: А, Б, В. Был еще один корпус, а точнее расположенный недалеко пивной бар, в котором часто толкались переводчики, называя его корпусом Г.
Еще одно здание было в Ростокино, в глуши за Сокольническим парком, куда и отселили французский факультет на следующий год после поступления туда Наташки.
Здание на Метростроевской было старое и загадочное. Коридоры иногда напоминали катакомбы, а стены сохранившие толстые слои разной краски, были неровными и казались холодными. Наташке иногда представлялось, что на них вот-вот начнут расти сталактиты.
Многочисленные коридоры изгибались, резко поворачивали то налево, то направо под прямыми углами, то упирались в тупик и выгоняли идущих на лестницы, то тянулись вдоль всего здания. Первое время, чтобы добраться до деканата, приходилось плутать по лестницам, так как попасть в нужное место не всегда получалось, если идешь насквозь по одному и тому же этажу. Второй этаж – этаж ректората был перекрыт посередине актовым залом с красными бархатными креслами и таким же тяжелым бархатным занавесом над сценой. Зал имел сквозные выходы и разбивал собой здание на две части, и чаще всего, одна из его дверей была закрыта. Находясь на втором этаже, чтобы попасть в другую часть здания из аудиторий, приходилось спускаться или подниматься и проходить к нужному месту по другому этажу.
Новый семиэтажный корпус на заднем дворе имел отдельный вход с раздевалкой и переход в историческое здание. Рядом с переходом находилась старая пристройка, называемая аппендиксом, где было несколько аудиторий, некоторые из которых соединялись, как смежные комнаты и совершенно не походили на учебные. Наташка запомнила, что на одном из старых, почему-то черных столов, среди прочего было выцарапано «lingua latina – penis canina». Между новым корпусом и историческим зданием, как раз рядом с аппендиксом, был переход. В центре перехода по одной стене находился женский туалет, а напротив и дальше по переходу – излюбленное место для курения, где собирались представители всех факультетов. И назывался этот переход трубой.
По сравнению со старым, новое здание казалось более веселым, солнечным и было построено специально с расчётом на языковые аудитории, из их окон открывался вид на крыши старых домов района Остоженки. На первом этаже располагались новые лекционные аудитории, сделанные по типу амфитеатра, где сверху можно было смотреть на кафедру с преподавателем, а на последнем – кабинеты фонетики с лингафонными классами.
Был в институте и лингафонный зал, современный по тем временам. Там студенты сидели в отдельных кабинках в наушниках перед катушечными магнитофонами. Не у всех тогда были магнитофоны дома, и не все записи можно было взять домой. А ребята-переводчики, особенно те, кого отобрали и готовили к курсам ооновских переводчиков, могли сидеть по 5 часов, слушая текст, пока он полностью до единого слова не был ими дешифрован. Бобины с пленками таскали с собой в сумках.
Сейчас это трудно понять, в эру интернета, когда любую информацию легко найти, не выходя из дома, когда нет необходимости перерывать многочисленные справочники и словари, посетить не одну библиотеку и читальный зал. А тогда нельзя было просто сфотографировать расписание или нужную страницу, надо было внимательно переписать часы и аудитории и законспектировать все полезное. Иногда на семинары Наташке приходилось брать с собой дорожную сумку и набивать ее толстыми учебниками и словарями, чтобы в нужный момент найти правильный ответ. Эту сумку она в шутку называла – сундук семинарский. Особенно он пригождался на семинарах по истории партии, философии и языкознания. Это были самые требующие дополнительной литературы семинары, так как удержать в голове подобную информацию оказывалось порой очень сложно.