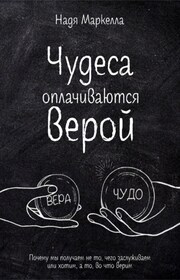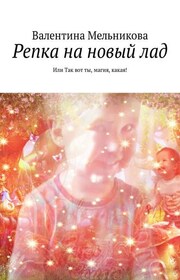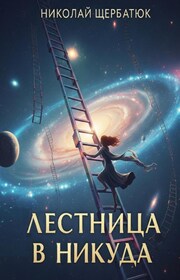Замок «Белый аист». Философская повесть Ашимов И.А.
От автора
Мечта о крепости, зародившаяся во мне еще в детстве, не была капризом моего праздного воображения или простым подражанием героическим сагам А.Дюма, М.Монтень, И.Канта, которые, несомненно, зажгли первый искру. Это было гораздо глубже – интуитивное предвосхищение экзистенциальной потребности, осознание незримой, но мощной угрозы, исходящей от самого устройства мира. Крепость рисовалась мне не как бастион против осязаемых врагов, но как метафизическое убежище от «земных невзгод» – от тончайших, но всепроникающих ядов бытия, способных разъедать сознание и похищать внутренний покой.
В «суете» я видел не просто движение, а хаотический водоворот, способный затянуть мысль, лишить её ясности и глубины. Суета – это энтропия духа, рассеивание энергии на бесчисленные, порой бессмысленные внешние стимулы, которые отвлекают от главного: от познания самого себя и окружающего мира. Крепость должна была стать барьером против этого ментального шума, гарантией той тишины, которая является не просто отсутствием звука, а благодатным состоянием для истинного мышления. В этом аспекте замок был для меня замком духа, неким метафизическим убежище в мире суеты.
«Тоска» от такой суеты, бессмысленности представлялась мне как бездонная пустота, способная поглотить радость творчества и смысл существования. Крепость – это ответ на эту пустоту, некий внутренний космос, наполненный идеями и целями, где душа обретает свой центр и свою опору. Это было стремление к сосредоточенности, к способности собирать мысли воедино, не давая им распыляться под давлением внешнего мира.
«Тревоги» и «сомнения» воспринимались мною как невидимые путы, сковывающие волю и парализующие действие. Они были скорее следствием отсутствия во мне внутренней опоры, неспособности укорениться в собственной истине. Замок должен был бы стать символом и источником уединения, не как бегства от мира, но как необходимого условия для самопознания и обретения внутренней непоколебимости. Это уединение, однако, не было бы изоляцией от познания, но, напротив, его катализатором – подобно отшельничеству, которое для философа или ученого становится путём к постижению глубин, недоступных в шуме мира. И, наконец, «зависть» – этот разъедающий яд, способный омрачить самые светлые устремления. Крепость мысли становилась защитой от внешнего негатива, позволяя духу оставаться чистым и незамутненным.
Таким образом, для меня еще юного замок был не просто архитектурной формой, а метафорой идеального пространства для независимости мысли и духа. Он представлял собой не только физическое убежище, но и ментальную цитадель, где ученый и философ мог бы беспрепятственно предаваться сосредоточенности и уединению, где царила бы та глубинная тишина, в которой только и возможно услышать голос собственной истины. Это была мечта о создании собственного, автономного мира, внутри которого можно было бы безраздельно властвовать над своими мыслями, строя свой уникальный путь к познанию, свободный от любого внешнего давления и внутренних помех.
Вот так зарождалась во мне идея построения замка-крепости. Жаль, что лишь после того, как я перешагнул пятидесятилетний рубеж, наконец, представилась возможность купить в горах дачный участок и начать строительство замка. Замок «Белый аист», действительно стал для меня не просто домом, а живым манифестом свободы познания и величия человеческого духа. Данная идея позволяет раскрыть ключевые идеи построения его, подчеркивая символизм Белого аиста и создать философскую повесть о поиске истины и смысле человеческого существования. Естественно, философское суждение о зарождении мечты о крепости у меня еще в юности подчеркивает метафорический смысл для меня самого уже взрослого – учёного и философа.
В подтексте повести профессор Каракулов (мой литературно-художественный прототип) – хозяин замка «Белый аист», который служит для него манифестом свободы познания и величия человеческого духа. Здесь он встречается с дервишем Захидом – ученым-суфистом в завершении им своего круга поиска истины. Их долгие беседы в тени замка задевают многие, животрепещущие проблемы мироздания.
«Замок строится не из камня, а из внутренних безмолвий, ставших необходимостью», – считаю я.
Пролог
В давние времена, когда мир ещё не был пленён суетой, а лишь предчувствовал её хаотический водоворот, в глубине юной души зародилась мечта. Не о бастионах против врагов осязаемых, но о крепости незримой, призванной стать убежищем от ядов бытия: тоски, тревог, сомнений и зависти. Так, в сердце Кубата Каракулова, будущего учёного и философа, всколыхнулось предчувствие «Замка Белый аист» – не просто строения из камня, но метафизического оплота, где тишина благодатна для истинного мышления, а свобода духа парит, подобно белоснежным аистам над родным Лейлеком. Это было пророчество о месте, где сойдутся пути двух искателей истины, разделённых мировоззрениями, но объединённых одной страстью – познанием Человека как единственной Истины. Замок, с его башней познания, стремящейся ввысь, и башней молчания, уходящей в глубины, предвосхищал слияние двух путей: рационального и созерцательного, в поиске той Истины, что обитает в глубинах человеческого духа.
Глава I.
Зов корней и юношеской мечты
В данной главе развертываются следующие тезисы: детство профессора Каракулова (литературно-философский прототип автора) в Лейлеке, где впервые он услышал притчу о белом аисте; зарождение мечты построить замок-крепость, а также идея названия своего замка «Белый аист»; предчувствие встречи на такой платформе со своей тенью, идейно близким странником, искателем истины.
Костер во дворе замка «Белый аист» горел ровно, его пламя, казалось, дышало с той же мерной силой, что и сердце древнего, но не до конца угасшего вулкана. Потрескивание сухих поленьев было единственным звуком в предрассветной тишине Ала-Арчинского ущелья. Профессор Каракулов сидел в массивном кресле, завернувшись в плед, и наблюдал за огнём. Его взгляд был прикован к пляшущим языкам пламени, будто он читал в них давно забытый, но вновь обретенный язык, язык первобытных истин. – Огонь. Не для тепла. А для присутствия… – Его голос звучал почти неслышным шёпотом, словно он продолжал какую-то бесконечную внутреннюю исповедь, начатую много лет назад.
В мерцающем свете костра оживали тени прошлого. Он вспоминал свою молодость, первые операции, когда лезвие скальпеля казалось продолжением собственной воли, а в воздухе витал липкий страх перед каждым разрезом. И потом – торжество жизни, которое можно было вернуть одним лишь прикосновением руки, одно за другим вырывая души из объятий небытия. Эти моменты, полные напряжения и триумфа, казались такими далекими, словно принадлежали другому человеку, другой эпохе.
Теперь – другие прикосновения. К памяти, к тишине, которая заполняла каждый уголок этого замка, его каменного убежища. Он заглядывал в пламя, как в своё собственное прошлое, и вдруг понял нечто поразительное: не те спасённые жизни, не благодарные взгляды пациентов сделали его тем, кем он стал, не они выковали его сущность, а пережитая боль – боль от чужих страданий, боль от собственных ошибок, боль от осознания границ человеческого знания. Не рука, что лечила, была главным инструментом его становления, а сердце, что сомневалось в каждой диагнозе, в каждом решении, и мысли, которые терзали его душу, не давая покоя, заставляя искать глубже.
Он хотел познавать истину, но не ту, что заключена в медицинских справочниках или научных формулах. Его теперь интересовала Истина с большой буквы – та, что лежит в основе всего сущего. Его главный вопрос, его вечный зов, который привел его сюда, в это каменное безмолвие, был прост и безмерно сложен одновременно: в чем состоит суть человека как истины? И в этом поиске, в этом стремлении, он был готов сжечь все мосты, все былые представления, чтобы в пламени познания обрести себя и, возможно, весь мир.
Детство в Лейлеке Каракулову воспринимается как отражение вечности в крыльях белого аиста, стая которых из века в век постоянно возвращается на лето в эти края. От того и произошло название района – само «лейлек» в переводе означает белый аист. Итак, в сердце самого отдаленного горного края, которую он называл краем каньонов и пещер, раскинулся родовой кишлак Кубата Каракулова. Здесь, среди первозданной, нетронутой красоты, где небо казалось бездонным, а горные хребты уходили в синюю дымку вечности, начинался путь молодого ума к познанию. Не городская суета, не рокот машин и не гул толпы формировали его сознание, а величественная тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в арчовых зарослях да криком орла, парящего высоко над утесами.
Кубат не был обычным ребенком. Его игры часто сменялись долгими часами созерцания. Он мог часами лежать на нагретых солнцем камнях, глядя на просторы, расстилающиеся до самого горизонта, и его взор чаще всего был прикован к небу. Именно там, в бескрайней синеве, разворачивалась драма и философия его ранних лет. Над Лейлеком, над его родным домом, кружили аисты – белоснежные посланники небес. Кубат наблюдал за их полетом с почти религиозным трепетом. Это было не просто наблюдение за птицами; это было погружение в метафизический танец бытия. В каждом взмахе их мощных крыльев, в каждом плавном парении на восходящих потоках воздуха, ему виделось нечто большее, чем просто движение живого существа.