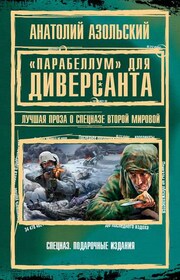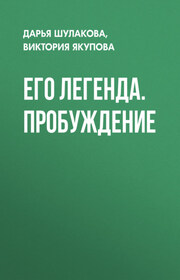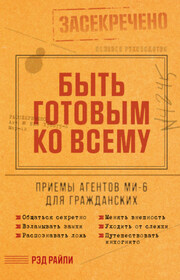Война на море Анатолий Азольский
Плавбаза бригады ОВРа (охраны водного района) – грузопассажирское судно, гордость не только балтийских моряков: был год, когда оно, ходившее на линии Ленинград – Лондон – Нью-Йорк, вызвалось – под громкое одобрение всех пароходств – доставить из США на Родину героический экипаж самолета, проложившего кратчайший – через Северный полюс – путь в Америку. Начало же войны застало судно в Мурманске, то есть у берегов покоренного авиаторами океана. В лучших помещениях (красное дерево, зеркала, пахло женщинами и духами) обосновался штаб бригады, а те, у кого нашивки поуже, заполнили тесные каюты, принесли в них запашки нестираных тельняшек, просоленных шинелей и кожанок, бушлатам и альпаковым курткам достался перегороженный на кубрики трюм. Мест в командирской кают-компании много, в придачу еще и музыкальный салон, средний комсостав бузил, не боясь комиссаров-замполитов. Сошлись однажды и заспорили: кому тяжельше воевать-служить? Стали загибать пальцы, подсчитывать потери, сокрушенно поцыкивая: да, очень, очень поредел, к примеру, выпуск 1940 года! Почти сто лейтенантов прибыло в Полярный из училища имени Фрунзе, ныне нет уже трети, сложили ребята буйные головушки свои за Отечество и товарища Сталина – во славу русского флота и бывшего Морского кадетского корпуса, созданного Петром Великим. Витька Оболенцев погиб в десанте на Западной Лице, у хребта Тунтури нашел могилу Юра Лебедев, Володька Ковров сгинул вместе с катером, Афанасий Мазилов затонул на торпедированном тральщике, и Колька… и Санек… и Мишка… и Борька – оба Бориса, Колесниченко и Юганов…
Сказали о Борисе Юганове – и сразу повисла томительная пауза, тишина говорила больше слов: война – не только смерть друзей, навечно снятых с довольствия, но и возможный исход для всех тех, кто продолжает на плавбазе получать кров и пищу. Гибли на земле и на воде, конец жизни представлялся понятно, обыденно, что ли: немецкая бомба или торпеда, взрыв, раздробляющий деревянный корпус морского охотника (МО) или тральщика (ТЩ), взметнувшиеся к небу обломки, барахтанье на стылой поверхности Баренцева моря, где температура воды такова, что окочуришься зимою за две минуты… Но Борис Юганов, командир минно-торпедной боевой части (БЧ-З) подводной лодки, погибал мучительно долго, запертый в отсеке, и хотя все знали, что бывает, когда лодка подрывается на мине, никому не хотелось растравлять себя картинами помирания в замкнутом пространстве, куда из пробоины рванула вода, выдавливая людей, поднимая их к воздушной подушке, к подволоку, держа их там, посиневших и огрузневших, до тех пор, пока не завалится набок идущая ко дну лодка, и воздух пузырем, захватывая соляр и ветошь, бескозырки и деревяшки, вырвется на поверхность, ухнет и булькнет.
Воодушевляющее, спору нет, зрелище, если ты командир МО и глубинными бомбами долбишь немецкую субмарину. Но непереносимое, жуткое, когда вспоминается курсант Боря Юганов, которого все четыре училищных года начальство шпыняло за громкий недостаток: Боря – сопел, не всегда, конечно, а перед доскою, решая задачи, или в строю, задумываясь о чем-то. В санчасть посылали, чтоб вырезать гланды или выпрямить хрящевину кривоватого носа, иногда покрикивали: «Курсант Юганов! Закройте поддувало!»
Могильная тишина оборвалась наконец. Ругнули союзников за то, что медлят, сволочи, со вторым фронтом, однако ж – братья по оружию все-таки, сообща сражаемся, и нельзя, наверное, клеймить их, как это внушают разные политруки и замполиты, островом Мудьюг, где англичане когда-то расстреливали рабочих и крестьян. Посудачили еще немного о союзническом долге – и от острова Мудьюг перескочили на остров Сальный (ну и названьице!), на котором обосновалась зенитная батарея, сплошь девическая; два месяца назад бравые морские летчики решили на мотоботе нанести зенитчицам дружеский визит, но неопытную делегацию течением унесло к выходу из Кольского залива, едва спасли ее. Следствие по данному делу недавно завершено, приказ командующего флотом оглашен, но до сих пор, говорят, контрразведку интригует немаловажное обстоятельство. Световые сигналы, демаскирующие батарею, зенитчицы – подавали? Летчиков – наводили на себя или договорились с ними загодя? И, кажется, есть у греков какая-то сказочка о сиренах, не тех, разумеется, что гудят в тумане…
В самой кают-компании курить нельзя, но в салоне дым поплотнее тумана, впору подавать сигналы той же сиреной или рындой, и разговоры в табачном облаке серьезные, достойные звучать на совещаниях у комбрига, поскольку обсуждалось курьезнейшее происшествие. Подрыв лодки на мине, жертв нет, лодка на плаву в надводном положении, два отсека затоплены, спасать команду приходит другая «малютка», по горизонтальным рулям люди переходят на борт спасительницы, но вдруг заартачился командир подорванной лодки, покидать нетонущий корабль не захотел, ибо повиновался уставу, где, кстати, полно нелепостей – так утверждали командиры МО и ТЩ у стола с подшивкою «Красной Звезды». С одной стороны, командир покидает корабль последним, когда убедится в невозможности спасти его, и в данном случае он обязан был уносить ноги с мостика подорванной лодки. С другой стороны – лодка-то оставалась на плаву, не тонула и была способна стрелять торпедами после дифферентовки!
Долгий был спор, под ворошение газетных страниц, с казуистическими уточнениями, педанты и практики сошлись, однако, на том, что ключевая фраза устава «Командир покидает корабль последним» преднамеренно не определяет, какой корабль разрешается оставить командиру, в какой степени аварийности, и, следовательно, только внутреннее убеждение, основанное на совести, подвигает командира на решение, которое может для него оказаться гибельным: совесть-то – понятие не уставное! Ну, а в этом досадном случае командир проявил пижонство, работал на публику и политотдел, что опасно и глупо: обе лодки – в видимости немецких батарей, выход в эфир означал скорый налет авиации, лодку точно запеленговали бы. И все-таки со штабом флота связались по радио, командующий рыкнул на умника и позера, лодку утопили, причем первая торпеда «малютки» прошла мимо, за что командир ее получил взыскание, скрашенное приездом жены, вернувшейся из эвакуации…
Искра, выбитая россказнями о Сальном и вроде бы угасшая, при слове «жена» разгорелась и угодила в пороховой погреб, от заполыхавшего пожара полетели дымящиеся любовные истории. Никто не врал, такого и в помине нет на Северном флоте, но все привирали, потому что говорить в кают-компании о женщинах напрямую и серьезно – бестактно по меньшей мере! Выяснилось вдруг, что, несмотря на войну, женского пола в Мурманске не убавилось: эшелонами отправляли – на юг и восток – всех невоеннообязанных летом и осенью 41-го, а глянешь ныне – баб полным-полно, на танцы в клуб железнодорожников не протиснешься, то же бабье царство в очаге культуры судоремонта, куда косяком прут союзные морячки, переизбыток женщин не только в Мурманске, но и в Полярном, во всех поселках западного берега Кольского залива. Да чего гадать – иди в Дом флота, хватай связисток! И праведными и неправедными путями возвращаются жены, увезенные в Ярославль и Горький, а где женщины – там жизнь, черт возьми! Вот недавно жена одного штурмана переоделась краснофлотцем и завалилась к мужу в каюту!
Жизнь, знали все преотлично, и без женщин возможна, а порой и необходима, но на то и кают-компания, чтоб приукрашивать службу, всегда серо-черную, и про обилие доступных женщин трезвонили как признанные страдальцы по этой части, так и те, кому всего и хотелось-то, чтоб тарелку со щами подавал не вестовой, а существо в юбке, и ни для кого не было секретом, что женщины, о коих велась речь, те самые не замечаемые ими до войны бабенки, которые сейчас заняли святые места жен и подруг, и бабенки эти за чулки, шоколад и сигареты продаются разноплеменной братии с иностранных судов.
Суда эти, идущие из Рейкьявика и Глазго, флот встречал у острова Медвежий и охранял их на всем пути до Мурманска и Архангельска. Тонули корабли, люди помирали на земле и в море, потери окупались ценностью грузов, особо полезных на втором году войны. Уже перевалило за середину ноября, полярная ночь: около полудня на юге серел небосклон, и через два часа вновь чернота заливала видимый глазу мир. Ни огонька в Кольском заливе, полное затемнение и в Мурманске, маяки зажигаются по особому расписанию.
Очередной караван транспортов сформирован, к выходу в море готов, ждут плохой – для немцев – погоды и благоприятной – конвою.
Как только в кают-компании заговорили о женщинах, Анатолий Калугин ушел в свою каюту. Ему вспомнилась одна ленинградская девушка, капризная и глупая, вертлявая студенточка – из тех, что прогуливают лекции, охотно идут в клуб и тут же, забросив руку на плечо пригласившего ее кавалера, забывают того, кто привел на танцы, то есть его, Толю Калугина. Плохая девушка, но – любил же, страдал, губами касался подставленных щек, на большее не рассчитывая и догадываясь, что кому-то разрешается оголять девичьи прелести, что-то там расстегивать. Нелепое прощание перед выпуском, и где теперь девушка, эвакуировалась ли, в осажденном Ленинграде осталась? Что-то было им недосказано и что-то им недослышано, так и не полюбила его девушка, а в ней – набережные, Эрмитаж, Васильевский остров. Адмиралтейский шпиль, юность и, конечно, Коля Иваньев, познакомивший его с девушкой, одноклассник, ныне командир БЧ-3 на эсминце.