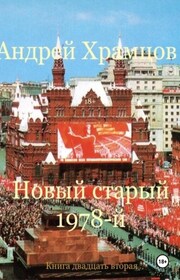Унтер-офицер. Повесть для киносценария Екатерина Садыкова
Дизайнер обложки Галия Венеровна Дьяконова
© Екатерина Анатольевна Садыкова, 2025
© Галия Венеровна Дьяконова, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-9716-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
УНТЕР-ОФИЦЕР
Повесть для киносценария
Моему любимому дедушке в честь 80-летия Победы. Я знаю, что ты всегда рядом. Благодарю сестру Людмилу Артемьеву-Щепину за подборку документальных материалов.
Какое ж это хлопотное дело – старый домик в деревне. Хочется дореволюционный дух сберечь, и одновременно комфорт нынешний добавить. У Раисы с Сергеем осталась от деда маленькая избушка в Кармаскалинском районе Башкирии. Построенная еще в 1900-м году из ладных крупных дубовых бревен, со слюдяными окошками, с палатями и самодельным струганым столом. А главное – с живой кирпичной деревенской печкой. Приехали они летом, начали убираться в домишке, и за печкой нашли старый, темный, промасленный деревянный сундучок, пахнущий канифолью и оловом, а в нем помимо мелкого кузнечного инструмента – десяток пожелтевших тетрадей с записями деда Тимофея. О том, как помещичий пастушок дорос до Георгиевского кавалера, награжденного двумя крестами самим царем. До унтер-офицера Тимофея Даниловича Артемьева, который почти сто лет шел по континенту Евразия в солдатских сапогах от Польши до Иркутска, через три войны и революцию, не посрамив человеческое имя и сохранив любовь к ближним.
Тетрадь 1-я. Детство
Полуденное солнце заливает собой дубовый лес с коряжистыми, мощными деревьями. Дубрава шуршит июльской листвой на легком жарком ветре. На толстой ветке дерева, выгнутой коромыслом кверху, низко подвешена люлька, в ней голенький младенец месяцев четырех, прикрытый белой тряпицей. Люльку качает красивая, пронизанная лучами солнца, женщина лет 35-ти. Она сидит, прислонившись к стволу дуба, на котором висит люлька. Рядом лежит коса. Поодаль расстелен белый рушник, на нем кувшин с молоком, краюха ржаного хлеба, вареная картошка, яйца, зеленый лук. Женщина тихонечко поет:
Вокруг жужжат пчелы, слепни. Жар. Аромат луговых трав и томление разлито всюду. Июль. Раздается хруст сухих веток, шуршание травы. К дубу подходит мужчина лет сорока, в белой расстегнутой льняной крестьянской рубахе, мокрой от пота, в серых льняных штанах, босой:
– Умаялись? Жарит нынче, водой только и спасаюсь. Жернова сладил. Бог даст, запущу к обеду мулле мельницу. Ато, вреден свят человек, – улыбнулся он в бороду, – все норовит меленку запустить, а мне да работникам моим кукиш показать. Хитер бобер.
Он подошел к люльке:
– Ну, а ты – то как тут, Тимошка? Мать тебя накормила ли?
Взял Тимофея из люльки на руки, поцеловал в лоб:
– Расти быстрей, помощник ты мой, вместе мельницы ладить будем, реки тебе покажу, дело свое расскажу.
Евдокия отломила хлеб, протянула Даниле:
– Да ты поешь, садись, хватит гулькаться, сыт он, только от груди оторвала, сосет как бычок. Сам-то голодный. Вон крынка, молока – попей, хлеб, яйца. Когда еще вечерять-то будем… Я полосу – другую скошу, и к хате подамся, квашня подойдет поди-ка.
Данила взял хлеб:
– Ты, Дуня, не майся, мы с робятами кончим дело, скосим. Лучше зрелки пособери, страсть как в рот просятся.
– Да – уж. Вон, за дубом лукошко, поди, посластись.
Данила идет за ствол дерева, берет корзину полную крупной зрелой земляники, садится подле жены, загребает горстью, сыпет в рот, ест с удовольствием, целует свою заботушку. Перебирается ближе к рушнику, пьет молоко из глиняного горшка, отламывает хлеб, жует картошку. Евдокия смотрит на него, улыбается. Разомлев, закрывает глаза и дремлет. Данила, наевшись, присаживается ближе к жене, прислоняется так же к стволу дуба и рядом засыпает.
Год 1899-й. Маленький круглый мулла с короткими ножками семенит за Данилой к мельнице:
– Данила, ты когда мельницу пустишь? Быстрей нада…
– Поспешишь, и будет шиш. Я тебе когда сказал новый вал привезти? А опоры? Как же я ее пущу, если нечем ладить?
– Я тебе вал из Бишаула завтра привезу, там старую мельницу разбирают, вал есть, опоры есть.
– Так они же старые, мучиться потом будешь, и меня проклинать.
– Неет, они хороший. Привезу, поставишь, ишо как работать будит.
– Ну, смотри, Нурей, я свое слово сказал. Не серчай потом, когда развалится.
– Да нет, ты сделай быстрей, а потом – потом и будит.
Не прошло и пару дней, как Данила стал запускать мельницу. Толпа зевак собралась поглядеть на диво у реки. С пригорка кувырком летит маленький мальчишка в ладных портках и рубашонке, и кричит:
– Тятя, тятя, а я то, погодиии…
Данила оборачивается на сыновний голос, подхватывает его на лету:
– Айда, Тимошка, щас водицу пустим. Федор, открывай заслонку.
Мулла семенит вокруг Данилы:
– Алла бирса, Алла бирса… муку на базар возить будим…
– Ты, Нурей, какой вал привез? Треснутый. Опоры все короедом изъедены. Не простоит долго, развалится.
– Эй, Данила, чего каркаешь на свою работу, воон вода бижит, вал крутит, щас зерно пустим, мука пойдет. Чего еще нада?
– Ээх, не слышит, – махнул рукой Данила. – Смотри тут Федор, я к Ивану на жернова пойду, погляжу. Глянем на муку, сынок?
– Айда, тятя, глянем, – отозвался вихрастый, выгоревший волосами на летнем солнце мальчонка, и побежал вслед за отцом внутрь мельницы.
Прошло лето. Листвой с деревьев слетела осень. Вот уж святки. Мулла в ватном чапане с красным злющим лицом, бегает вокруг своей мельницы и причитает:
– Ай, Алла, Ай Алла, щас камень треснет. Данилу крищите. Эй, каму говорю, зови Данилу.
Данила на коне, взметая клубы снега, приосадил возле мельницы, влетел в нее в распахнутом черном полушубке, как ворон. И спустя минут десять, все стихло. Мулла трусливо потоптался еще некоторое время возле, и боязливо вошел внутрь. Через полчаса вышли оба.
– Пока вал новый не привезешь, молоть ничего не будем. И опоры менять надо. Это уже по весне, к лету ближе.
– Ладно, Данила, ладно. Я уж испугался, думал, камень треснет, все здесь поломает. Рахмат сине. Привезу вал, на неделе привезу.
Наутро мулла уехал за валом. А в деревню к Даниле явился на бричке помещик Камелов со спиртзавода:
– Говорят, Данила, ты мастер мельницы ладить. Пойдешь ко мне? Мулла-то ваш, жадный. А я не поскуплюсь, хорошую мельницу возьмем, запруду сделаешь на Карламанке, дом дам, деньгами не обижу, сам потом и мельничать станешь. Вон мальчишку твоего грамоте обучим. Поедешь?
– Закончу с Нуреем, налажу эту. Чего ж не поехать, поеду. Чай, больших инженеров в округе не сыщешь. А я по своей науке все сделаю. Лучше инженерной молоть будет. Поеду, коль позвал.
Избушку помещик дал маленькую, бревенчатую, в три слюдяных окошка. Печка, стол самоделок, полати да божница. Вот и вся домушка. Но Даниле работа была надобна, как невеста неженатому. Не терпел он без любимого дела. Душа ныть начинала. Так и остался у помещика. Тимошку помещичий слуга Микитка учил буквам и цифрам, скручивая их из глины. Евдокия с раннего утра на хутор уходила коров доить, работникам обеды готовить, да хлеб печь. Тяжело ей приходилось. Работников у помещика была сотня. А обслуги всего-то три бабы. Приходила Евдокия затемно и уходила по темну. Тимошка с маленьким братишкой Федором жалели ее, сами дома кашеварить научились. Когда картошку сварят, когда полы подметут. И все зимой в окошко глядят, может маманька пораньше придет.
Как-то раз зима была лютая. Окошко промерзло насквозь, иней бородой висит. Тимошка все дрова в печку покидал, что в доме были. Надо было на двор идти, из поленницы нести. Только валенки натянул, как дверь распахнулась, и двое мужиков втащили под руки отца Данилу:
– Ну-ка, малец, держи самогон, тятю растереть надобно. Плесни на руки-то, давай скорей. В реке он замерз, колом лед с мельничного колеса сшибал, чтоб закрутилось.
Отца положили на полати, растерли, ползком он перебрался на печку. Тимошка согрел кипятка с травой, влез к нему и стал поить. Данила трясется весь, зуб на зуб не попадает. Выпил и чай, и самогон, вроде утих. Тимошка оставил керосинку на ночь незагашенной и ждал мать. За полночь пришла Евдокия. Тимошка рассказал, как все было. Мать заплакала:
– Господи, помрет ведь. Мороз-то, какой. Чем лечить-то.
– Не надо, мама, не плачь, тятя здоровый, сдюжит, – утешал Тимошка.
А сам боялся, вдруг и вправду помрет. Шибко уж холодно было за окном. Наутро у отца началась горячка. Он метался, кашлял, стонал, за грудь хватался. Мать побежала к барину просить отвезти Данилу в больницу. Кучер повез, да ни тулупом не укрыли, ни овчиной – холщовым одеялом, что в бричке лежало с осени. Обратно вернулись быстро, в больнице отца не оставили. Тятя с трудом заполз на полати. К утру захрипел, заметался, кинулся на двор, мать остановила. Сел за стол:
– Как же вы теперь без меня будете жить?