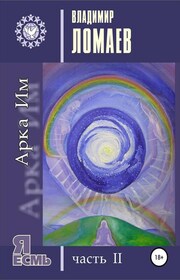История науки в кратком изложении Андрей Анисин
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ
В современном мире наука представляет собой едва ли не самое мощное явление человеческой культуры. В науку верят, науке служат, наука радикальным образом меняет повседневную жизнь общества в пределах даже одного поколения. При этом наука воспринимается как то самое главное, что отличает современность от предшествующих эпох. Такое восприятие истории человечества выработано и внедрено в массы позитивизмом, – начиная от его основателя Огюста Конта, через кумира всех прогрессивных людей XIX века Герберта Спенсера и через различные школы неопозитивизма и постпозитивизма, которые в XX веке оказали определяющее влияние на мировоззрение учёного сообщества и – через систему образования – на всё общество.
Согласно этому взгляду, человечество проходит три стадии: мифологически-религиозную, идеалистически-философскую и позитивно-научную. На первой стадии человек был очень слаб интеллектуально и совсем не умел познавать мир, а потому объяснял все явления сказочно, опираясь на фантазию и предполагая за каждым событием действие сверхъестественных сил. Потом разум человека развился и сказочные, мифологические объяснения уступили место умозрительным конструкциям, то есть теориям, в которых мир объяснялся через философские категории и понятия. Это был шаг вперёд, поскольку вместо мифологических существ с их своеволием речь шла о безличных сущностях, подчинённых логике разума. Но настоящего познания мира идеалистически-философская стадия не достигала. Это настоящее познание мира становится возможным на стадии позитивно-научной, когда разум человека развился до такой степени, что смог трезво познавать мир так, как он есть сам по себе, и достигать тем самым позитивного знания. На этой стадии наука заменяет всё: становятся не нужны ни религия, ни философия (которые должны быть просто отвергнуты как искажённые формы познания), да и искусство становится не нужным (но всё-таки терпимым как безобидное развлечение), мораль должна стать научной, освободившись от мифологических и религиозных мотивов, – мировоззрение в целом должно теперь стать научным! Таков позитивистский взгляд на историю человеческой культуры и таково восприятие истории человечества в массовой культуре современности.
Впрочем стоит заметить, что рука об руку с позитивистским наукоцентризмом в истории Нового и Новейшего времени идёт увлечение «духовными учениями», принципиально отрицающими науку. XVIII век, век Просвещения сопровождался расцветом мистицизма, который перешёл и в XIX век. Революция в науке (которую называют третьей) на рубеже XIX и XX веков проходила на фоне нового всплеска интереса «образованной публики» в спиритизму и прочим оккультным явлениям. В начале третьего тысячелетия мы также видим массовый спрос не только на чудеса науки и техники, но и на различные псевдонаучные и оккультные учения, объявляющие, что традиционная наука «устарела».
Как и любая простая схема, позитивистская концепция очень доходчива, но очень неточна, и в некоторых вопросах – «с точностью до наоборот». Историю человеческой культуры вряд ли уместно сводить к развитию познавательных способностей, тем более что никакие реальные исторические данные не дают повода заподозрить людей даже далёкого прошлого в слабости интеллекта. Фантастические достижения науки и техники нисколько не уменьшают в человеке потребность в религиозной вере и философской мысли. То, что даёт человеку искусство, наука дать не способна. Да и мораль вполне автономна от науки: научными методами можно с равным успехом обосновать как нравственное, так и безнравственное поведение.
В этой главе нас будет интересовать история становления и развития научного познания. Эта история, как мы увидим, далеко не столь прямолинейна и однозначна, как расхожие представления о ней.
Вопрос о историческом начале науки:
преднаука и наука в собственном смысле слова
Само начало науки разные исследователи её истории определят по-разному, – исходя из того, что же ими понимается под наукой. При этом временные рамки науки, определяемые этими подходами, могут отличаться очень сильно. Надо сразу сказать, что все перечисляемые ниже точки зрения имеют свою правду и в своём смысле – верны. Все они важны для понимания сущности научного познания и его исторической динамики.
Во-первых, под наукой можно понимать вообще любые знания, умения и навыки, приобретаемые человеком. В этом смысле наука это навука (именно так это слово звучит, например, по-болгарски), – то есть то, чему человеку удалось научиться и навыкнуть. И тогда, разумеется, наука берёт своё начало в самых истоках человеческой истории, в изучении свойств минералов, растений и животных, в выработке технологий обработки древесины, камня и шкур, технологий использования огня и приготовления пищи, в познании природы вокруг себя и себя в окружении природы. Такое широкое понимание сущности науки, конечно, имеет определённое право на существование.
Во-вторых, возникновение науки часто связывают с древними цивилизациями Востока (Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай), с теми тайными жреческими знаниями, существовавшими в этих культурах, которые представляли собой органичное единство мифологических представлений, практического опыта, долгих наблюдений за явлениями природы и духовных практик. Это – в отличие от описанного выше первого смысла – уже некое особое знание, доступное не всем, знание, которое не ограничивается видимой стороной действительности, а пытается проникнуть в её внутреннюю таинственную сущность. Жреческие знания и учения различных религиозно-философских школ Древнего Востока, действительно, являются наиболее значимой часть того, что часто называется преднаукой.
В-третьих, начало науки многими исследователями традиционно связывается с древнегреческой культурой. В этом есть свой большой смысл. Дело в том, что древние греки изобрели процедуру доказательства как методологическую основу знания. Можно сказать, что объем знаний, которыми владели древние греки, был даже меньше того объема, которым располагали упомянутые только что великие цивилизации Востока. Сами греки часто подчеркивали, что «всему научились у египтян» (к которым многие знания пришли из Месопотамии и Индии), а также у финикийцев, у которых позаимствовали алфавит и основы мореплавания (то есть не только инженерные компетенции, но и богатые астрономические знания и навыки). Однако при всей своей мудрости Восток оставался на уровне «рецептурного знания»: знания, что нужно сделать, чтобы получить нужный результат. Разницы между точным и приблизительным знанием при этом не существовало, главное, чтобы была обеспечена эффективность той или иной деятельности. Так, например, по указанию древнеегипетского папируса, площадь земельного участка вычисляется умножением полусуммы противоположных сторон на полусумму двух других сторон. Если углы четырехугольного земельного участка близки к прямым, то эта формула работает вполне точно. А именно таковы, видимо, были поля египтян, более точные расчеты были просто не нужны.
Не только простые рецепты вычисления площадей, но и, например, знание теоремы Пифагора существовало на практическом уровне и в Древнем Египте, и в Древнем Вавилоне, и в Древнем Китае, но никому там не приходило в голову доказывать её, то есть выстраивать логическую цепочку рассуждений и геометрических построений, демонстрирующую, что это так, и что иначе быть не может. Евклид свою геометрию, изложенную в «Началах», строит именно как систему доказательных рассуждений и выводов, опирающихся на самоочевидные аксиомы. Логика доказательства была подробно разработана Аристотелем в его «Аналитиках» и стала основой рационализации знания. Строгая рациональная логическая структура процесса познания и научного знания как его результата является очень существенным признаком науки и заслуга выработки этого признака принадлежит, конечно, древним грекам.
Однако познавательная деятельность учёных Древней Греции была обращена почти исключительно к той реальности, которую Платон называл «миром идей», – к той же логике и математике. Даже если речь шла о познании явлений природы, то в них видели именно только явления, видимые проявления неких идеальных духовных сущностей, которые образуют истинный предмет познания. Новый шаг в становлении науки связан с методологической опорой наопыт, – именно здесь многие исследователи видят настоящее начало науки. Уже с XII – XIII веков начинает звучать эта мысль: основой для системы наших знаний должны быть наблюдения и эксперименты, а вовсе не авторитет великих мыслителей прошлого и не традиция, закреплённая в книгах. Окончательно восторжествовал такой подход к познанию в конце XVI – начале XVII века. Эта четвертая точка зрения на сущность науки и на время её возникновения очень важна для понимания истории науки.
Ещё один – уже пятый – подход к вопросу возникновения науки в настоящем смысле слова связывает её с математизацией знания. Хронологически начало науки в этом случае почти совпадает с предыдущим вариантом, но суть происходящего видится в другом. Во-первых, это коперниканский переворот в картине мира, связанный с утверждением гелиоцентрической системы, а во-вторых, – ньютоновская физика, подчинившая весь мир действию законов механики. В обоих случаях речь шла о построении математических моделей для объяснения данных опыта, – здесь разрабатывалась не отвлечённая математика идеального мира, как это было в Древней Греции, а именно математическая модель природы. Показательно в этом смысле заглавие книги И. Ньютона: «Математические начала натуральной философии». «Натуральная философия» – это и есть на языке той культуры осмысление природы. Такой взгляд на начало науки современного типа достаточно традиционен, именно с этого времени, с XVII – XVIII веков мы говорим об основоположниках современной науки, о великих учёных, заложивших фундамент современной научно-технической цивилизации.