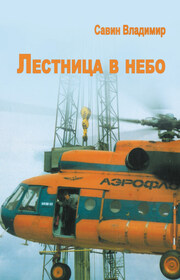Городские в деревне, или Вечное лето Мария Строганова
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р25-507-0155
© ООО ТД «Никея», 2025
© Строганова М. В., 2025
Зима. Владимирская область, двести километров от Москвы. Мы с сестрой идем в магазин на лыжах. Это меньше двадцати минут от нашей деревни, и, конечно, при желании можно было бы съездить в магазин на машине, но лыжи – это спорт, а спорт – это здоровье. Жизнь в деревне подразумевает заботу о здоровье. Поэтому мы терпим и идем. На мне шапка-ушанка, куртка мехом внутрь и горнолыжные штаны. В чистом поле ветер такой, что покорители Крайнего Севера уважительно кивают нам из снежного тумана. Здесь вообще кругом поля. Основанный в начале XII века Юрием Долгоруким город Юрьев-Польский – примерно пятнадцать километров от нашей деревни – назван Польским вовсе не в честь недружественных русичам поляков, а именно из-за полей, раскинувшихся вокруг на километры.
– Знали ли мы, – кричу я, пытаясь опередить ветер, который, будто заправский фокусник, запихивает мои слова обратно в горло, да еще и примораживает там накрепко, – знали ли мы двенадцать лет назад, что дойдем до этого?
Под «этим» я подразумеваю все вместе: обветренные щеки, сосульки под носом, лыжи, мешковатую одежду, поля, ветер, жизнь в деревне, наконец.
Таня не слышит, она вдруг останавливается и с размаху падает в мягкий снег. Я падаю рядом. Это называется снеготерапия – завет родителей. Когда лежишь в пушистом снегу и над головой небо Аустерлица, пустые вопросы не тревожат разум: «Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»
Как все начиналось
Дом в деревне родители купили в 2000 году. Это было немного спонтанное решение – нас пригласили в гости, мы полдня пролежали под липами, лениво наблюдая течение ручья в овраге, парились в бане, кормили кур и фотографировали каждый куст, а ночью плохо спали из-за непривычной тишины. А потом оказалось, что участок рядом продается, и на волне любви ко всему живому, закрепленной ежевечерним просмотром фотографий, мы сказали: «Конечно, покупаем».
Весной в деревню приехали уже хозяевами и домовладельцами. В багажнике машины лежали свеженькие блестящие лопаты и грабли, а также механическая газонокосилка – последний писк моды в те времена. Никогда до этого момента у нас не было собственной земли. Поэтому, едва осмотревшись, мы начали пахать, как первые колонизаторы, благодарные Христофору Колумбу.
У нас с сестрой не вызывало никаких сомнений, что за неделю-другую устроим на своем клочке земли примерно в сорок соток цветущий сад. А потом почием на лаврах, наблюдая дела рук своих. Я заранее скупила все книги и журналы по садоводству в своем районе и во сне видела идеальный огород, английский газон, рабатки, клумбы, каменистые горки и прочие изыски. В реальности после недели изнурительных работ мы вскопали несколько грядок на бывшем поле для картошки, покосили клочками поле одуванчиков, вместо газона покрывающее наш участок (причем косой – немецкая косилка оказалась с характером и раздумала работать в столь грубых условиях), и сделали клумбу в палисаднике, обложив кирпичами кружочек земли с редкими цветами. Эта клумба меня и добила: сверяясь с картинками в журналах, я поняла, что слишком далека от идеала.
Впрочем, столкнувшись с суровой реальностью, мы не утратили колонизаторского пыла, а просто несколько сдвинули сроки запланированного великолепия. Сначала мы наведывались в деревню урывками, успевали пополоть сорняки, скосить траву, собрать редкий во всех смыслах урожай и возвращались в Москву. Это было очень обидно – мы оставляли красивый, ухоженный участок, а по приезде нас вновь встречало непаханое поле. Спрашивается: когда наслаждаться и радоваться плодам рук своих?
В первый год, кстати, на огороде отлично вышла только одна культура – салат. У меня до сих пор хранится фото, на котором я пытаюсь объять необъятную грядку, пышущую зеленью. Потом, все последующие годы, папа будет поминать нам с сестрой этот салат: «Вот было время, дочки…» Уж не знаю почему, но больше такого урожая салата у нас ни разу не было. Видимо, это был бонус и поддержка – если б не салат, мы бы, возможно, совсем разуверились в себе.
С декоративным садоводством дела обстояли тоже не очень. Прекрасные картинки из журналов не давали мне покоя. Особой притягательностью обладало словосочетание «альпийская горка». Альпы… горы… синие дали. Какая перспектива! Один местный мужичок, вдохновленный приездом сумасшедших москвичей, готовых платить деньги за камни, тащил к нашей калитке валуны всех размеров, а мы раскладывали их, создавая Альпы своей мечты. Это было очень красиво – так нам казалось.
А потом однажды мы посетили лекцию знаменитого растениевода, специалиста по хвойным растениям. Демонстрируя слайды на экране, он показывал примеры неудачных альпийских горок. Первая называлась «булочка с изюмом»: камни более или менее одинакового размера разложены на горке на примерно одинаковом расстоянии. Вторая – «собачья могилка»: один большой камень, воткнутый в верхушку горы, в сопровождении мелких по бокам.
– Тебе это ничего не напоминает? – шепотом спросила меня Таня.
– Что? – спросила я, сама невинность, поднимая голову.
И тут я поняла…
– Молчи, молчи, – прошептала я в ответ, одновременно сгорая от стыда и давясь от смеха. На этих слайдах были наши труды во всей красе. И «собачья могилка», и «булочка с изюмом» – горе-садоводы, как по учебнику.
Впрочем, с годами время и опыт дали-таки результат. Газон выровнялся, растения заплодоносили, а камни лежали молча, но красиво.
Местные относились к нашему пылу со смешанными чувствами: нечто среднее между плохо скрываемой иронией – ну что с них взять? москвичи! – и любопытством: а вдруг в книгах дело пишут?
Наша соседка слева баба Валя прожила в деревне всю жизнь. Вырастила и выдала замуж дочку, похоронила мужа, осталась одна и, кажется, радовалась соседям-энтузиастам. У бабы Вали были куры, поле картошки и яблоня. Мы скупали на местных рынках деревья и кусты, привозили семена в ярких упаковках и обязательно любимую бабивалину селедочку или зефир в шоколаде. Принимая подарок, она махала рукой, отворачивалась и говорила, якая по-володимирски:
«Плявать!» – высшая степень смущения и завуалированное «спасибо».
– Что сажаете, пион, что ли? – спрашивала баба Валя, заставая нас на огороде.
Что еще могут сажать эти москвичи, не картошку же!
– Яблоню, – отвечали мы.
– А! Яблоньку!
Петуха бабы Вали звали Пончик, и у него с хозяйкой были исключительно нежные отношения. «Спой, Пончик», – просила баба Валя, выходя во двор, и петух нахохливал загривок, приподнимал иссиня-красные крылья и горланил что есть силы.
Куры петуха тоже уважали, но, как и всех местных, их очень интересовал наш огород – свежевскопанная земля, мирные милые хозяева, разноцветные семечки, закопанные неглубоко в землю, – с точки зрения кур это был санаторий. Они рвались через забор всеми правдами и неправдами, подкапывая, перепархивая, пролезая, а баба Валя гнала их обратно. Утром мы просыпались от ее громких криков: «Чух, чух!» Пончик пел, куры бежали, мы аплодировали.
Конечно, деревня, как и положено, ассоциировалась у нас не только с земледелием, но и со скотоводством. Тут уж мы были не практиками, а исключительно наблюдателями. По крайней мере, до поры до времени – копили опыт, так сказать. Вникали. У бабы Тамары на краю деревни, например, была свинья и корова. Прекрасное сочетание, подумали мы и, вдохновленные, отправились слушать, как прекрасно жить со свиньей и коровой. Идиллия представлялась нам так: прогулки по пахнущими клевером полям, парное молоко строго по часам утром и вечером, нежное похрюкивание и не менее нежное помукивание.
– Даже кирпичи жрет! У, дьявол! – сказала баба Тамара, показывая свинью в хлеву.
Свинья в ответ подняла налитые кровью глаза и забила копытом. «Кто-то новенький? – думала свинья. – Люблю новеньких». «Это точно свинья, а не кабан?» – думали мы и старательно улыбались, чтобы скрыть нервную дрожь.
С коровой оказалось не сильно лучше. В полях стояло нечто размером со среднего слона, окруженное роем мух и слепней. Тут баба Тамара была более благодушна.
– Матушка-кормилица, – сказала она и нежно прихлопнула слепня на необъятном боку коровы.
А мы почувствовали, как на голубую незабудку наших душ вгромоздился паук реальности. «Крупные животные хороши при наблюдении издалека», – решили мы.
Ольга Яковлевна на другом конце деревни держала двух коров, козу, пяток свиней, с десяток баранов и не счесть по мелочи – гуси, куры. Тут уж мы были готовы и настроились по-боевому. Но куры оказались милыми существами (да еще с цыплятами, желтыми комочками милоты), гуси не злыми, а коза – дереза. Подвели только овцы.
– Сегодня три померли, – мрачно сказала как-то Ольга Яковлевна, – переели свежей травы, не уследила. Раздуло их, и померли.
«Так, овцы – тоже не наше, – поняли мы. – Как может овца переесть травы?! Нет, не наше».
Зато свиньи у Ольги Яковлевны были не чета бабитамариному хряку. Настоящие свиньи оказались, в общем. Однажды мы пришли полюбоваться на новорожденных поросят, и Ольга Яковлевна рассказала нам, что свинья, разродившись, несколько дней не ходит в туалет – терпит, держит все в себе, чтоб вокруг розовых поросят не было ни навоза, ни грязи.