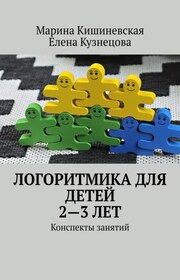Четыре эссе об искусстве письма Роберт Льюис Стивенсон
Редактор С. П. Маляров
Дизайнер обложки Ю. В. Гринько
Переводчик С. П. Маляров
© Роберт Льюис Стивенсон, 2025
© Ю. В. Гринько, дизайн обложки, 2025
© С. П. Маляров, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-2573-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
О некоторых технических элементах стиля в литературе
Впервые опубликовано в Contemporary Review, апрель 1885
Нет для человека большего разочарования, чем увидеть подноготную и механизмы любого искусства. Все наши искусства и занятия лежат на поверхности – именно на ней мы и воспринимаем их красоту, гармонию и смысл; но стоит заглянуть внутрь, как нас начинает пугать их пустота и поражает грубость тех «шнуров и верёвок», на которых всё держится. Похожим образом и сама психология, если углубиться слишком далеко, оборачивается отталкивающей схематичностью, однако чаще всего это не столько порок ума, сколько недостаток нашего анализа. Возможно, то же самое и в эстетике: открытия, которые, кажется, губят всю «высоту» искусства, губительны нам ровно в меру нашего незнания. А те сознательные или бессознательные приёмы, в которых мы готовы усмотреть нечто недостойное серьёзного художника, могли бы – умей мы проследить их до самых глубин, – стать доказательством гораздо более тонкого восприятия и отголоском исконных «гармоний» в самой природе. Но подобное невежество в основном неисправимо. Мы никогда не узнаем, как именно связаны между собой разные проявления красоты: всё это спрятано слишком глубоко в самой природе и уходит корнями в туманные древности истории человечества. Поэтому любителя всегда будет коробить, когда ему раскрывают секреты мастерства, – секреты, которые можно лишь описать, но нельзя полностью объяснить. Более того, как сказано в «Хадибрасе», «Тем сильней рукоплещут искусству, Чем меньше его понимают», многие и впрямь, узнав новый приём, чувствуют, будто их радость от соприкосновения с прекрасным померкла. Хочу, значит, сразу предупредить «широкого читателя», что я пустился тут в занятие, крайне ему неприятное: словно снимаю картину со стены и разглядываю оборот, как любопытный ребёнок, разбираю музыкальную шкатулку по винтикам.
1. Подбор слов
Искусство литературы стоит несколько особняком от других сестёр, потому что материал, с которым работает писатель, – это наша обиходная речь. Отсюда, с одной стороны, непосредственность и живая новизна: ведь читатель уже «настроен» понимать эти слова. Но отсюда же – и особое ограничение. В других видах искусства сырьё и пластичнее, и податливее – как глина в руках скульптора. Литературе же приходится трудиться словно мозаи́сту, выкладывая тексты из отдельных готовых «кусочков» – жёстких слов с фиксированной формой и смыслом. Вы, наверное, видели детские кубики – один в виде колонны, другой напоминает фронтон, третий – окошко или вазу. Примерно такими же разнокалиберными и «негнущимися» блоками приходится располагать в тексте писателю, возводя свой «дворец искусства». Но и это ещё не всё: раз эти «блоки», иначе говоря, слова, – признанная валюта нашей повседневной жизни, то в литературе невозможно прибегнуть к таким пропускам, недосказанности и умолчаниям, которые так часто помогают другим видам искусства достичь выразительности, плавности и силы. В живописи есть условные знаки и неявные мазки; в архитектуре – монолитные глухие стены. Здесь же каждое слово, каждая фраза, каждое предложение и даже абзац должны разворачиваться строго и логично и нести вполне определённый, принятый в языке смысл.
Первое, что очаровывает нас на страницах хорошего писателя (или в речи блестящего собеседника), – это меткий выбор слов и их верное противопоставление. В самом деле, удивительно: взять эти «кирпичики», созданные, казалось бы, для суда да торга, – и умелым применением вдохнуть в них тончайшие оттенки, пробудить их исконную силу, придать им новое остроумное назначение или превратить в звучный барабан, чтобы всколыхнуть чувства. И всё же при всём несомненном впечатлении такая красота слов не у всех авторов одинаково сильна. Вспомним, к примеру, Шекспира – какая точность, выразительность и чистое поэтическое обаяние слов – и, скажем, Эддисона или Филдинга. Или, ещё ближе к нам, Карлайла: у него каждое слово как будто под током, словно лицо человека, потрясённого сильным чувством; а у Маколея, при том что лексика достаточно подходящая и звучная, слова в памяти не держатся, сливаясь в общий поток, где ни один не выделяется особо. Но всё же первые тут не «забирают» себе всю литературную славу. Есть ведь и другая ценность стиля. Так в чём же именно Эддисон превосходит Карлайла? Или почему Цицерон бывает лучше Тацита, а Вольтер – Монтеня? Ведь не в «рельефности» слов, не в глубине или интересе материала, не в силе ума, в поэтичности или юморе. Все трое ничтожны по сравнению с тремя другими, и всё же, если говорить о некоем особом качестве литературного искусства, они в этом качестве превосходят именно своих титанов-собратьев. Но что же это за качество?
2. «Ткань» текста
Хотя литература, благодаря значимости и универсальности языкового материала, стоит особняком, она остаётся искусством, а искусство, как известно, делят условно на два больших рода. К первому относятся те его формы, которые представляют или «подражают» чему-то (как скульптура, живопись, театр), а ко второму – те, что всего лишь «представляют себя» (вроде архитектуры, музыки, танца). У каждой группы есть свои особые законы. Но и у той, и у другой есть общая основа: всякое искусство, так или иначе, стремится создать «узор», будь то узор красок, звуков, движений, геометрических форм или подражательных линий. Вот где они сходятся, вот в чём их общая сущность. А то, что порой искусство забывает это детское своё начало и берётся за более серьёзные задачи, нисколько не отменяет того, что заодно оно «по долгу службы» создает узор.
Музыка и литература – искусства временные: они строят свой узор из звуков, следующих во времени, то есть из звуков и пауз. Обменяться мыслью можно и одним только набором существительных (как мы делаем иногда в спешке) – но это ещё не будет литературой. Настоящая литература как бы «оплетает» мысль, связующими витками обнимая её со всех сторон, чтобы каждое предложение своими фразами сначала завязалось в узел, на миг задержало смысл, а потом распустило бы его, всё проясняя. В грамотно построенном предложении всегда можно услышать такое «узелковое» сжатие, которое (пусть и тонко) подталкивает нас к ожиданию и даёт радость «развязки» в конце. Эта радость может усиливаться эффектом неожиданности – например, в грубоватой форме антитезы или, тоньше, когда автор будто готовит антитезу, а потом ловко её обходит. Важно и то, чтобы каждая фраза звучала красиво сама по себе, а между «завязыванием» и «распутыванием» в целом предложении царило гармоничное равновесие звуков. Ничто так не разочаровывает слух, как торжественно и звучно начатая фраза, которая в финале теряет силу и расползается. Но и чересчур резкая, прямолинейная симметрия не лучше: главное правило – неизменное многообразие, способное и заинтриговать, и обмануть ожидания, и приятно удивить, но всё же в конечном счёте удовлетворить. Иными словами, стиль – это бесконечное «чередование стежков», при всей аккуратности и связности «шитья».
Представим фокусника, который жонглирует двумя апельсинами, – нас завораживает, что он ни на миг не забывает ни один из них и оба непрерывно в движении. Писатель делает то же самое. Его узор, предназначенный радовать внутренний «слух», в то же время обязан отвечать логике. Как бы ни были путанны его мысли и сложен довод, конструкция текста не должна рассыпаться: если художественность страдает, значит, автор не справился. С другой стороны, ни слова, ни завязанного внутри фразы «узла» нельзя вставлять «для звука»: всякая подобная деталь должна прояснять ход мысли; иначе это будет уже подлог. Закон прозы не прощает пустой приписки, одинаково безразличной смыслам и звуку (во Франции поэтические «заплатки» называют cheville, но в прозе такие же вставки тоже недопустимы). Значимость формы оправдывается лишь тем, насколько она помогает ясности, краткости, выразительности.
Стиль синтетичен. Когда автор выстраивает «опору» для фразы, он сразу берётся за несколько элементов или взглядов на предмет, перемешивает, сопоставляет, проводит между ними скрытые связи и, по сути, достигает того, на что потребовалось бы два или три предложения, внутри единого оборота. Переход от старой «хроникёрской» письменной манеры, где всё разложено по порядку, как в протоколе, к более «плотному» и образному современному письму потребовал много работы ума и воображения. Тут не только более глубокий и вдохновляющий взгляд на жизнь, не только более тонкое чувство того, как связаны и вытекают друг из друга события, – тут ещё и умение решать сложные технические задачи письма. Ведь именно эта постоянная изобретательность – то самое «остроумие», что незаметно движет повествование вперёд, кружит нас по связям и подтекстам, балансируя сразу два, а то и три «апельсина» в воздухе. А без такой изобретательности не было бы и философской глубины, которой мы так дорожим. Потому стиль тот совершеннее, который достигает наибольшей выразительной плотности «незаметно». Или если и заметно, то лишь с пользой для силы и смысла. Даже отступления от «естественного» порядка слов помогают читателю яснее увидеть все ступени рассуждения или звенья действия. И чем сложнее это хитросплетение, тем завлекательнее сама «ткань».