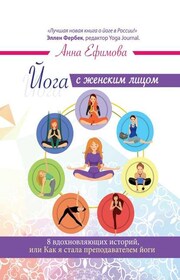Быть шехзаде А.Л.О.Н.
1. Из тени во тьму
Я Ахмед. Я стою босой. Камень холодный. Чувствую, как мрамор под ступнями дрожит, будто сам дворец содрогается.
Он дрожит. Или это я дрожу. Разве это важно…, просто всё вокруг кажется зыбким, как дым от благовоний.
Шаги. Медленные, тяжёлые, как удары сердца. Я смотрю не вниз. Вглядываюсь только вперёд, в распахнутые ворота, откуда тянет сырой тьмой.
– Не смотри, – шепчет мать. Её пальцы вонзаются в моё плечо. Ногти, будто когти птицы. Я не смотрю на неё, я смотрю, как они выносят первый гроб.
Он появляется, как выплывает корабль. Тихо, слишком тихо. Только скрип кожи на древках, да шаги балтаджи, сухие, как треск сухожилия.
Кто там? Шехзаде Юсуф? Хасан? Или Коркут? Имён никто не произносит вслух, будто имя может напугать ещё больше. Гроб – он ведь маленький. Он слишком маленький. Для взрослого мужчины. Слишком короткий.
Я не могу дышать.
Кажется, я знаю, кто там. Я не должен знать, но уверен, что знаю. Маленький шехзаде Яхья гладил меня по голове вчера. У него были мягкие пальцы. И запах мяты от губ. Он наверняка не сопротивлялся. Он просто молчал.
Махмуд справа. Как камень. Только пальцы у него побелели. Кулаки, сжатые до крови. Он выше меня на голову. И старше. Его глаза стеклянные. Будто он сам уже мёртв, только ещё дышит.
– Это такой закон, Ахмед, – говорит брат. Махмуд всегда говорит так, будто уже носит тюрбан отца. Его голос пустой, как глиняный сосуд. – Мы все должны подчиняться. Это закон, – шепчет он. – Закон Фатиха.
Фатих. Завоеватель. Убийца своих братьев.
Их с Мустафой мать, Халиме-султан, стоит рядом с валиде Сафие-султан. Там. Ближе к воротам. Обе наверняка тоже в слезах. Но отсюда мне не видно их лиц.
Я молчу. Вдыхаю запах ладана, смешанный с потом балтаджи. Слышу, как где-то в глубине коридоров плачет наложница. Ещё вчера, её смех, наверняка, звенел в хамаме, а теперь он срывается на вой.
Мать снова сжимает мне плечо. До боли. Но ни я, ни она – никто не шевелится.
Второй. Третий.
Я зачем-то считаю.
Мустафа утыкается в мой рукав. Плачет без звука. У него текут слёзы, и я чувствую их на своей коже – солёные, горячие. Он не понимает, зачем. Я… я тоже не понимаю. Просто считаю.
– Почему их так много? – Мустафа тянет меня за рукав. Сейчас оторвёт. Его глаза, как два чёрных озера, полные страха. Он ещё маленький, младше меня почти на три года. Он не понимает… А я… не должен понимать…
Четыре.
Пять.
– Замолчи, – бросает Махмуд. Он не поворачивает головы, только губы едва шевелятся. – Радуйся, что не ты там.
Радуйся.
Шестой.
Балтаджи идут в ногу. Ритм – сердце зверя. Или глашатай на площади: один удар – одна смерть.
Седьмой.
Евнух падает на колени. Вопит. Кто-то бьёт его в лицо. Молчи. Молчи, ты ведь знаешь, за что.
Восьмой гроб покрыт зелёной парчой, вышитой золотом. Такой тканью отца… повелителя – мать сказала, теперь следует называть отца так – укрывают, когда он молится. Я чувствую, как у меня немеют пальцы. Кто там? Кем он был? Он тоже молился, как отец?
– Он тоже был любимцем Аллаха, – тихо говорит мать. Я не знаю, к кому она обращается. К себе? К Аллаху? Ко мне? – Но и его судьба решена.
Судьба.
Девять.
Внутри меня кто-то кричит, но губы склеены, как у мертвеца. Я хочу спросить – а когда придёт моя судьба? Кто откроет для меня эти ворота? Кто вынесет мой гроб?
Десять.
Один из них был поэтом. Он читал мне стихи. Он говорил: «Только не бойся, маленький шехзаде. Всё будет иначе». Он лгал…
Одиннадцать…
Я считаю. Я больше не слышу слов. Я больше не чувствую руки матери. Я – только глаза и уши. И числа.
Эти большие. Я думаю, что знаю и этот гроб. Вернее, того, кто в нём лежит. Наверняка он когда-то давал мне сладости. Играл со мной, когда отец ещё не был султаном. Шехзаде Абдулла.
Я хочу спросить у мамы: «Почему?»
Но молчу.
В воротах гарема – тьма. Туда уносят мужчин, как тени. Не будет похорон. Не будет имён. Только шёпот за стенами.
Двенадцать. Тринадцать.
Где же мой гроб? Я закрываю глаза и вижу его. Он стоит у стены. Ждёт. Нет. Он не для меня. Пока не для меня. Но он ждёт.
Четырнадцать. Пятнадцать.
Мать молчит. У неё лицо каменное. Но её ногти до сих пор в моей плоти. Где-то далеко плачет ещё одна женщина.
Шестнадцать.
Семнадцать.
Восемнадцать.
Молись, Ахмед.
Я не могу.
Девятнадцать.
Пауза. Тишина. Пауза.
Отец… Повелитель выходит. Тюрбан высокий. Лицо как пепел. Он не смотрит на нас. Он смотрит туда, где исчезли гробы. Его братья. Его кровь.
– …Аллах устроит…, – он говорит моему брату Селиму, поспешающему за ним, без интонации. Без смысла. Ни начала, ни конца…
Я гляжу им в затылок. Я гляжу в ночь.
И шепчу. Только один вопрос. Без слёз. Без звука.
– А когда моя очередь?
Они выходят молча. Гроб за гробом.
Я не вижу лиц тех, кто их несёт. Я не вижу лица повелителя и своего старшего брата Селима. Только тяжёлые тени, скользящие по мраморному полу.
2. Стены молчат
Полночи я лежу, не моргая, и слушаю, как плачет стена в моих покоях. Она старая. Всё в ней дрожит. Камни скрипят. Один с другим, будто шепчутся.
Иногда я думаю, что внутри кто-то есть. Живой. Но не человек. А что…? Кто-то такой, кто знает всё про этот дворец. Знает…, кто кого убил. Кто кого обманул. Кто плакал в этих покоях до меня.
Но молчит.
Специально. Чтобы я сам догадался. Или испугался.
Прошло всего два года, как повелитель привез нас из Манисы в столицу. А тут всё ещё пахнет смертью. Она не оставляет… Идёт следом за мной. Не громко. Не спеша. Как будто выбирает, кого забрать следующим. У неё нет запаха. Но когда она рядом, даже гранаты на блюде становятся горькими.
Вчера мы ели ифтар в покоях валиде Сафие-султан.
Повелитель тоже был, но ненадолго. Всё смотрел по сторонам, будто искал кого-то.
Я уверен – Селима.
Только Селима больше нет. Моего старшего брата Селима больше не будет. Ни сегодня. Ни завтра… никогда больше. Он ушёл. А вместе с ним… тень на лице повелителя. Она стала глубже.
Мама сидела прямо. Не плакала. Даже когда отец ушёл. Не посмела плакать в присутствии валиде.
Я видел: губы у неё дрожали. Но она держалась.
Как будто хотела показать, что она сильнее других. Сильнее, чем Халиме-султан – мать Махмуда. Достойнее её…
Будто валиде Сафие-султан решать, кто из нас станет султаном. А кто – нет.
Кто из нас будет жить. А кто станет только строкой в молитве.
Хасан-ага всю ночь спал под дверью. Ближе к жаровне. Хотя, когда холодно, он всегда так.
А новый лала, Мустафа-ага, не пришёл даже на феджр. Я ждал. Но он так и не появился.
На сухур Хасан-ага принёс полную софру: йогурт с мёдом, хлеб – ещё тёплый, оливки, суп, даже булгур…
Я ел быстро. Голод был не в животе, а в груди. Как будто там дыра.
Потом мы пошли на молитву. Гаремная мечеть полна, как всегда. Лица одни и те же. Все разглядывают меня и мою мать Хандан-султан. Женщины шепчутся, пока Ходжа Мехмед Эфенди не поднимает на них взгляд.
У него глаза, как острые когти – с ними нельзя спорить.
Ходжа, произносит особую молитву за душу покойного брата Селима.
Я повторяю каждое слово, чувствуя ответственность перед Аллахом. И каждое слово, как нож. Оно режет изнутри, и я не могу понять, я злюсь или мне просто страшно.
Дальше пошли в классы талимхане. Там всё как обычно. Но всё же немного по-другому.
Уроки Корана сегодня имеют особый смысл. Ходжа говорит: смерть Селима – это испытание. Мол, Аллах проверяет моё терпение. А ещё, он говорит, что теперь я ближе к трону. Что смерть Селима делает меня ближе к роли будущего султана, и подчеркивает необходимость быть достойным этой ответственности. Я возражаю про себя, мол есть ещё Махмуд… Но молчу и только киваю в ответ.
Опускаю глаза.
Брат шехзаде Махмуд. Он сейчас с повелителем в Айя-Софье.
Почему никто про него не говорит?
Полдень.
Во дворце проходят траурные церемонии. Всё как будто затянуто серым. Даже аги все молчат.
Меня привели в Селямлык. Я стою рядом с матерью и валиде. Халиме-султан смотрит на нас. Словно что-то решает. Может, просто переживает из-за долгого отсутствия Махмуда. Может тоже, думает, кто следующий?
Женщина, кажется её зовут Озлем-хатун, красиво читает Коран. Она часто приходит к султаншам.
Придворные идут один за другим, кланяются. Сначала бабушке, затем султаншам и моей матери. Потом мне и шехзаде Мустафе. Тётка Айше-султан перешептывается со своей младшей сестрой Фатьмой-султан. Переодически смотрят на нас с братом. Но тут же отворачиваются. Наши сёстры – султанши хором повторяют священные слова, читаемые Озлем-хатун:
– Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун.
Взрослые говорят о потере. О скорби. Об Аллахе.
Мы с Мустафой должны сохранять почтительное молчание и показывать свою скорбь. Так сказал Ходжа Мехмед Эфенди. И мы молчим. Как будто это экзамен.
Вечером, когда вернётся Махмуд, нам разрешат поиграть. Во дворике валиде-султан. Но не до заката. Бегать нельзя. И точно не громко.
Хасан-ага сам забрал меня с уроков.
Лала Мустафа-ага теперь больше не мой лала.
Он будет наставником Махмуда. Смешно получилось.
Я спросил: почему?
Он ответил:
– Мустафа-ага стал теперь старше и важнее.
А потом замолчал.
Я вспомнил – лалешахиб покойного брата Селима тоже умер от скарлатины.
И мне стало нехорошо. Не от болезни. От того, как всё быстро меняется.
От Хасана-аги я удрал ловко.
Есть одно место в коридоре, где изразцы днём греются на солнце.