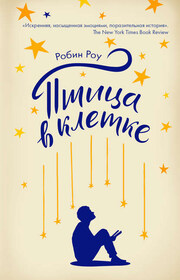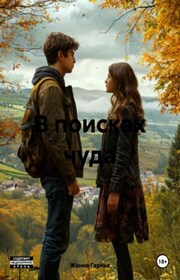Жизнь с аутизмом Айлин
Перед применением рекомендаций требуется консультация врача
© Айлин, 2025
ISBN 978-5-0065-4725-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эпиграф
Оплакивая себя, мы забываем о главном.
Что жизнь одна и Богом была данная.
Не для рыданий и стенаний,
А для любви и созидания
Для счастья, радости, добра,
Тепла, уюта, и тогда поймем, зачем нам даны
Руки, ноги, голова, душа и тело.
Станем верить, помогать, мечтать.
И жизнь откроет новую страницу,
И пусть цвета не те в ней будут,
Нестандартно, ярко, заиграют перед нами чудеса,
А мы творить их будем вместе с теми,
Кто сам один без нас не смог бы это сделать никогда…
Жизнь с аутизмом
Какого это жить с аутистом? Я имею в виду не малыша, которого легко взять на ручки и отнести куда надо, даже если он орёт и сопротивляется. Я говорю о более взрослых детях, подростках и взрослых.
Родители детей с аутизмом с тревогой смотрят в будущее, оно такое туманно неопределенное, что остается только верить в лучшее, чтобы не сойти с ума и не отчаяться.
Если в доме аутизм, то надо жить настоящим, здесь и сейчас, иначе мысли и переживания просверлят вам голову и депрессия станет вашим другом. У меня есть некое ощущение, что я живу на режимном объекте, где есть свой строгий свод правил и требований. Стоит расслабиться и что-то нарушить, как спокойствие рушится на глазах и наступает неминуемое наказание: истерика, самоагрессия, откат.
Но!!! Если все делать правильно, строго и чётко, обдуманно и осторожно, то негативные моменты можно сократить до минимума и прилично снизить их интенсивность проявления.
В день, когда я узнала, что мой ребенок неизлечимо болен, мой мир рухнул. Было чувство, что на меня, живую, положили могильную плиту, и никто не сможет, даже если очень сильно захочет, эту плиту поднять. Боль поселилась в сердце, отчаяние – в душе, слезы лились нескончаемым потоком. Казалось, еще немного, и рассудок покинет мою измученную голову.
Я шла по улице, держа за руку очень симпатичного мальчугана. Черные большие глаза, обрамленные пушистыми длинными ресницами, делали его похожим на девочку. Он шел спокойно и четко по заранее только ему известному маршруту, и я шла за ним, ведомая его стереотипией…
Буквально за два с половиной года я постарела. Да, именно постарела. Вдруг в жизни произошло то, чего я больше всего на свете боялась – моему сыну поставили неизлечимый диагноз аутизм.
Начался период моего личного ада. Все молча смотрели на меня с сочувствием в глазах и ждали, что я смогу сделать. А я не знала, что делать, не знала, с кем обсудить, как поступить, в душе была дикая боль, а кричать и плакать возможности не было. Я старалась не опускать руки, обзвонила все возможные медицинские центры и центры по раннему развитию детей. Начала водить ребенка к психиатрам, неврологам, психологам, логопедам-дефектологам. Везде одно и то же: диагноз подтверждался, рекомендации звучали как приговор.
После всего услышанного от врачей я решилась давать нейролептики, и ребенок успокоился. Это было так странно: он был как под наркотиками, но не в эйфории, а в глубокой апатии, ничего не хотел, был вялый и безвольно ведомый. Время прекращения действия лекарства на организм можно было понять по активизации агрессии, началу быстрого, хаотичного хождения по квартире и размахиванию руками. Но стоило дать лекарство, как снова ребенок обмякал и садился тихо смотреть мультики, хотя я не уверена, что он их вообще воспринимал тогда, просто любил лежать на диване перед телевизором. Я объехала, наверное, все логопедические центры в городе, взяли нас только в один для занятий, у них практиковались прикладной анализ поведения и АБА-терапия. После шести месяцев практически ежедневных занятий с логопедом и нейропсихологом не было абсолютно никакого прогресса: ребенок как будто жил в параллельном со мной мире, пока был под действием лекарств, а без них не мог контролировать свое раздражение и агрессию, чтобы чему-то учиться.
Я начала поиски другого центра для занятий, и на одной из консультаций врач мне честно сказала, что не возьмется, так как ребенок не в состоянии учиться, что стоит показать его специалистам в Санкт-Петербурге в НИИ Мозга Человека, прежде чем тратить деньги и время на педагогическую коррекцию проявлений аутизма.
Я не могла дождаться вечера, чтобы уложить сына спать и найти необходимую информацию о больнице в Питере. Как оказалось, вся информация максимально подробно выложена на сайте. Запись на консультацию и осмотр ребенка осуществлялись по телефону. Я была шокирована, что мне ни один врач до этого и слова не сказал о существовании различных не медикаментозных методов лечения аутизма в стенах больницы, все говорили только про нейролептики, и всё.
Я вдруг поняла, что в моем городе врачи не видели перспективы в таких детях и даже не пытались дать им шанс на развитие и учебу, они просто с помощью лекарств делали их удобными и безопасными. Сама мысль ужасна: врачи, чья работа спасать жизнь, ставили крест на жизни ребенка, подсаживали его на препараты, которые блокировали часть мозга и наносили массу вреда физическому здоровью, фактически отправляли его домой на дожитие, как, например, безнадежно больных раком, которые уже прошли все стадии лечения и не имеют больше ни малейшего шанса на выживание.
Ужас, страх, смятение, надежда – всё смешалось в голове тогда, и было ощущение нереальности происходящего.
НИИ Мозга человека в Санкт-Петербурге внутри была как самая обычная больница, с бесконечными коридорами и низкими потолками. В первый день мы проходили комиссию врачей: невролог, психолог, логопед дефектолог, психиатр, делали ЭЭГ мозга. Пока врачи готовили заключение и рекомендации по лечению, нас отпустили погулять в парк на территории больницы. К сожалению, аутизм подтвердили и врачи в Питере. К счастью, они не ставили крест на таких детях и нам дали очень подробный план-рекомендацию на лечение на пару лет вперед. В него входило и медикаментозное лечение (ноотропы, витамины), и немедикаментозное лечение (микрополяризация мозга и биоакустическая коррекция мозга), и целый комплекс занятий и упражнений для логопедической и педагогической коррекции состояния ребенка.
Врачи сразу сказали, что путь очень сложный, на многие годы, требует много сил, терпения и денег, не все выдерживают и доходят даже до половины пути. Многие отчаиваются из-за отсутствия результатов и через год бросают, считая несоизмеримыми потраченные средства и силы и отсутствующий или минимальный прогресс в состоянии ребенка. У кого сдают нервы от постоянной привязки к графикам, занятиям и больницам, кто-то, получив небольшой прогресс, бросает, посчитав, что раз лед тронулся, то дальше всё само уже будет получаться.
Они говорили обо всех сложностях, пытаясь внушить мне, чтобы я не тратила попусту их время, если не готова бороться за ребенка и не слишком сильно бы себя винила, если в какой-то момент сойду с намеченного пути.
Я слушала и не понимала, как вообще можно сомневаться в том, что родитель что-то не сделает, имея надежду помочь ребенку. Потом я, конечно же, поняла, о чем они говорили, и меня накрывало, и не раз, отчаяние, страх бесполезности происходящего, собственная неуверенность в правильности того, что делаю для ребенка. Но это было потом…
Любому родителю тяжело принять то, что его ребенок не такой, как положено по стандартам общества, это всегда трагедия и душевная боль. Пусть и говорят, что любят безмерно, и неважно, какие проблемы со здоровьем у малыша, это никак не помогает побороть боль и страх за будущее ребенка, за черствость и непринятие ребенка обществом. И поэтому первое, что приходит на ум родителям такого ребенка, – как всё исправить, как помочь малышу, чтобы его жизнь стала условно нормальной.
И я не исключение. Я тратила все свои силы на то, чтобы «исправить», и никак не хотела верить, что на моем пути могут оказаться «неисправимые» вещи. В тот период жизни у меня в голове часто всплывала пословица: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И каждый раз я ловила себя на мысли, что я давно не утопающая, я утопленница, а вот смогу ли я что-то сделать, чтобы меня реанимировали, вопрос времени. Я каждое утро заставляла себя встать с постели, одеться, накраситься и пойти на работу. Почему-то мне было важно хорошо выглядеть, и я не хотела, чтобы на работе узнали о моем истинном душевном состоянии и начали меня жалеть. Мне казалось, это меня окончательно добьет.
Моя жизнь несколько лет состояла из изнуряющего труда на работе, бесконечных занятий с ребенком в логопедическом центре и дома и курсов лечения в Питере. Все труды и усилия приносили свои результаты, пусть медленные и пока неуверенные, но заметные, что давало силы на продолжение борьбы за сына.
К шести годам у моего сына сложилась фразовая речь. Пока она была похожа на речь недавно начавшего изучать язык иностранца – с неправильными окончаниями, без употребления связующих предлогов, путаницей в использовании рода и времени произносимых слов. Но для нас это было сродни настоящему чуду, потому что это была вполне осознанная, настоящая речь, а не эхолалия, на уровне которой так и остаются в развитии многие детки, страдающие тяжелой формой аутизма. В этот период я практически внушила себе, что мой ребенок сможет учиться в школе, посещать ее очно, а не сидеть дома, запертый в четырех стенах и не имеющий возможности получить эффективное социальное адаптирование в обществе.