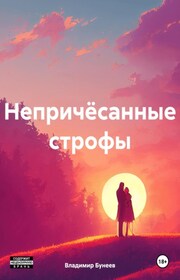Желтеющая книга Алёшка Емельянов
Pink blonde
Под лёгким тальком лепестки,
под светло-розовой вуалью
теплы так взгляда огоньки.
О, славно-ласковая мальва!
Ты – дивно-радостный бутон,
что ароматом ясно веет
среди влюблённейших времён!
И взор голубенький сереет.
Миндальный майский полуцвет
цветёт пьяняще, благодарно.
Его могу вселицезреть,
хотя сентябрь светозарный.
Ты, как фонарик средь листвы,
что освещает целый город!
Среди дерев, кустов, травы
ты предстаёшь великой Флорой!
И эта Флора – пик богинь -
в обличьи сакуры до лета,
имея добро-чистый чин,
живёт и будет жить в поэте!
Просвириной Маше
Споры о сталинизме
Народ, как базарная свора,
как сборище рынка, лотков,
какие вождь с плетью, укором
скрепляет стальным кулаком.
Он смотрит за ними сурово,
грозя им всем трубкой, лозой,
и ставит владельческий норов
превыше числа, голосов.
Не дай Бог пастух заболеет,
умрёт иль предастся слезам,
отары все хлынут, чуть блея,
навстречу лугам и волкам.
Все судьбы овец не для рая.
Упитан чабан среди гор,
за чьим одиноким сараем
кровавый пенёк и топор…
Арену Ананяну
Исполнивший роль
Минувшая буря: обломы деревьев,
прохлада, залитый бедой городок,
на небе свинца молодые отрепья,
намочены улицы, каждый ходок,
бельё у забора, промозглые веси,
порыв несказанный почти уже сник…
Тут будто шаманили ведьмы и бесы,
стараясь разрушить былое до них.
Сырые листочки налипли повсюду
и колется в бок освежёванный сук,
а парочка веток спасли, будто чудо,
от грязи кисельной, пинающих мук.
Железная боль и помятые спицы.
Увял мой смолистый огромный бутон.
Дарую природе, окрестным границам
побитый, но гордый, блестящий поклон.
Согнутая ручка, а в куполе дыры.
Тут лужи и мусор, листва на мостах.
Хозяин мой сух и с семьёю в квартире,
а я вот разломанным брошен в кустах…
Разбуженный
Приятная ночь, сновиденья.
Мелодии шорохов трав.
Минуты, часы примиренья.
У хаоса нет уже прав.
Все выдохлись. День нагонялись.
Нет ссор, и тишайший бардак.
И к космосу все приравнялись -
такой же покой, полумрак.
И бриз одурманенно веет.
Во тьме лишь одно божество -
ведь все пред туманным Морфеем
склонились, блюдя торжество.
Почти что беззвучье, безделье.
Жив звёздно-бесптичий полёт.
Но всё пробудится от зелья.
Уже предрассветье грядёт.
Чернильность под жжёным поднебьем.
Все спят: и живой, и мертвец.
Но скоро такому волшебью
наступит законный конец.
Медвежусь в бетонной берлоге
и нежусь спокойно, как клад.
Но вдруг за стеной, на востоке,
лиса, волк бухтят и шуршат…
Кровожеланность
Одни оглушают и грустно взирают,
несмело заносят оружье над жертвой,
и глаз убиенных, что вдруг засыпают,
не могут забыть до последних от первых.
А есть палачи, что без слёз и с размаха,
срубают им головы, актом смакуя.
А третьи ждут долго их смерти до плахи,
другие же – рыб потрошат наживую…
Бывают иные, кто слаб и не может
забрать жизнь, что выдана им единично
тем, кем-то всевышним, с названием "Боже".
Тот ест лишь в гостях и в кафе за наличность.
Рыбёшки, животные, птицы, моллюски
умрут от ножей то замедленно, быстро.
На блюдах японских, французских иль русских.
Все люди хотят роли Бога, убийства…
Черепки – 16
Будто бы громы и кличи,
колокол средь этажей,
лучше будильников зычных
крики дурных алкашей.
***
Коварно-свободная львица
со львами и тиграми спит,
порою с бизоном, тигрицей -
ведёт полигамнейший быт.
***
Терзаясь вниз идти иль вверх,
стою на лестничной развилке.
Подъезд – Тартар и рай для всех.
Тяжёлый выбор. Миг заминки.
***
Бутон в причинном месте
на платье из цветов…
Ох, опылить бы честно
его в тени кустов!
***
Душа – осенний помидор,
что вытек семечками в поле,
что не нашёл хозяйский взор,
и принял гнилистую долю.
***
Осенняя тишь и сиянье созвездий.
И спать бы поэту, вникая в уют…
Но слёзы алкашки внизу (у подъезда)
тоскою, надрывом мне спать не дают…
***
Как поливать пустую грядку,
как удобрять высокий снег,
как сыпать семечко на пятку…
Беда. Бесплодье женских недр.
***
Земля – тюрьма вселенская
во влаге, в полутьме,
Мы в ней, как рыбы, плаваем
в моче, слюне, дерьме.
***
Наверно, странные строки
я мыслю, пишу и пою…
Понятно, что ели сороки.
Что ж хищники ели в раю?
***
Как прыщик на сизой спине,
как шейная родинка, кочка,
как синий нарыв на стене,
тот ящик с названием "почта".
***
Как дупла, сделанные чуркой,
с плевками, мусором средь бурь,
набросом банок и окурков -
вагины юных, дев б/у.
***
Я много страдал или жил улыбаясь,
и видел, как гибли бою пацаны,
но вот, как сейчас, поутру, просыпаясь,
не видел ни разу умершей жены…
***
Зефир языка покрывая глазурью,
с натяжкой плоти вливаю в борта.
На нёбе узор напоследок рисуя,
я член вынимаю из узкого рта…
Рыжики
Крапинки хны – освященье от Бога
с лучшего из всенадземных кадил.
Будто бы дождик обкапал два стога -
пара осыпана медью с родин.
Будто искались все месяцы, годы,
стружкой магнитясь, брели до сего,
вмиг подошли, как внезапные коды,
и обрелись под большой синевой.
Оба (смотрящих вовсю изумрудно)
вместе шагают, тоскуя ль смеясь,
любят так огненно, ласково, чудно,
общим пожаром дождей не боясь.
Общие мысли в умах заискрили -
вместе пошли под желанный венец.
Два рыжих волоса пальцы обвили
вместо златых обручальных колец.
Жалюзи
Веки домов опускаются тяжко.
Вечер усталостью клонит ко сну.
Улицы в дрём погрузятся этажно,
шахматно всем показав белизну.
Трубы сопят и порядно вздыхают,
чуть отметая листочки от стен.
Ветки теряют листву, подсыхая
и обнуляясь в цепях перемен.
Струны столбов пообвисли так вяло,
вновь прогибаясь под тяжестью туч.
Их проводам влаги выпитой мало.
Солнце лишило текущих в них гущ.
Близятся мрачность, стихание, сумрак.
Многие души и темень родны.
Даже киоски-жучки свои шкуры
тоже прикрыли в преддверии тьмы.
Реже мелькают полёты пернатых,
мошек-людей и машин-светлячков
под абажурами лампочек златых
в серых оправах бетонной оков.
Шторность железная вся размоталась,
тесно смыкая ресницы, замки.
Снова забвенье, покой возжелались
городом тесным, сомкнувшим клыки.
Окна-глазницы закрылись к закату,
шрамы морщин показав красноте.
Ночь поукроет мир сонной палаты
звёздной периной в сухой черноте…
Оглыхание
В ушах завелась тишина
червями из каменных нот.
Мелодия грустно-темна.
Слух занырнул в гололёд.
Завеса и фоновый штиль.
Сплетенье тоски с немотой
среди атрофии всех жил,
испуга от встречи с бедой.
Скопленье, остывший затон,
затор из погасших лучей,
комки, где смерзается звон,
средь свадебно-ярких речей.
Звук, как беззвучная сыпь,
мне бросился колко в глаза
средь чёрно-мелованных глыб.
Хлестнула из букв полоса.
Ударностью лома по лбу
меня оглушил этот вздор,
даруя чужую толпу,
поток отвращений, позор.
Внезапно, как брызги всех гроз,
плеснул отрезвляющий свет,
когда на заветный вопрос
сказала ты горькое "нет"…
Тракторист
Намечены планы сельхозных работ.
Большой агроном багровеет в палатке.
По водочно-красным щекам льётся пот.
Проснулись закуты и избы, и хатки.
И главный трудяга седлает свой трон,
дымуя горелой моторною вонью.
Издавши сигнал, матерящийся стон,
вперёд устремляется, выпив спросонья.
Вся дымь папиросная, будто туман,
затмила сознанье и вид из кабины.
Шаманит внутри самогонный дурман.
Машину ведёт, огибая, как мины.
Всё рулит, петляет в густой целине,
вгрызаясь в осевшую с осени пашню,
в просаленно-пьяном и муторном сне,
и смотрит в стеклянную, мутную башню.
Он плугами режет все почвы, кусты,
и птичьи напевы не ведает слухом,
срезает сорнячные ленты, росты,
а выхлоп солярочный травит округу.
Злой тракторный рокот гудит, будто гром,
в минуты прохладно-станичной зарницы.
Рычащий движок раскалился костром,
но гонит водитель кривой колесницы.
Рассветное утро. Часы на семи.
Весенние дни трудоёмкого сорта.
И пахоты пыль, как горенье земли,
скрывает его за седым горизонтом…
Стационар
Вся кровь – блуждающая боль.
Бессильны дюжины инъекций.
И душу ест, смакует моль,
минув десяток дезинфекций.
Всё тело – ноющий сосуд,
чей остов полон всемучений.
И каждый день тут – новый суд,
что вновь приносит огорченья.
Век обречённости, тоски,
и смерти склад такой удобный,
где человек – кусок доски,
стоит, лежит совсем прискорбно.
Тут сотни пар почти живых
и одиночек с белой кожей.
Набор из вялых и кривых:
из бедных, юных, мудрых, дожей.
Они меж госпитальных стен,
как будто клетки, метастазы,
в которых хворь без перемен
легко лютует час за часом.
И только высший чей-то ум
излечит дом, свободя короб,
луча жильцов с уменьем дум,
от бед избавив слабый город.
Сгибает головы ко дну,
и нет покоя, чуда, сладу…
Лишь только свет развеет тьму,
что часть всестрашия и ада.
Ассоциации
Мы в чёрной ограде широкого парка,
как стелы в кладбищенской, тихой кайме.
И рядом стаканчики вафельны, чарки.
Минуты тут спят в окружающем сне.
Улыбки детишек и старые маски,
и взрослые лики, и юных ряды,
мелки и песок, и таблички, и краски,
закрытые, речью текущие рты…
По краю и в центре погасшие свечи
оплавленных солнцем поникших столбов.
Пернатые взлёты вразброс и навстречу,
их песни играют на семь голосов.
Цветочные клумбы венчают смиренье
живых, молчаливых, что тоже добры.
И тут происходит со всем примиренье,
сознанье неважности ссор и борьбы.
Большие красоты, фонтанная влажность
и стройный елово-берёзовый сад
даруют спокойность, тепло и вальяжность,
за дверь не пускают, в грохочущий ад.
Тут многим уютно, беседно сидится,
глядится вперёд в очудесненном дню,
иным – так беспечно и лакомо спится…
А я, будто сторож, за всеми смотрю…
Ожидание картины
Куски снеговые владеют всем миром,
но всё же проталин имеется власть.
Водой и бензиново-радужным жиром