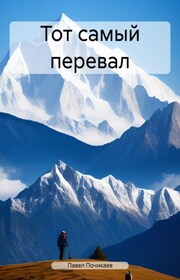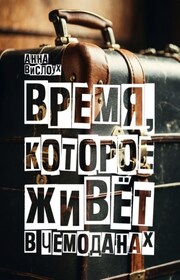Тень греческой мечты Оксана Озкан
Пролог
Когда мне исполнилось десять лет, на прилавках наших постсоветских магазинов появились вафли «Куку-руку». За ними между детьми моего возраста и старше в буквальном смысле велась охота. Не потому, что вафли эти были шикарными на вкус – хрустящими, ароматными, пахнущими шоколадом и арахисом, – нет. В них были наклейки-вкладыши! Сначала нужно аккуратно снять цветную обёртку диковинного салатового, плавно переходящего в небесно-голубой, цвета с округлыми жёлтыми буквами. На обертке – герой их популярных в то время мультфильмов Уолта Диснея – Дональд Дак с клюшкой для поло и ещё трое персонажей. Обёртку – в сторону, и вот оно – чудо, приклеенное на фольгу лицевой стороной вниз – наклейка с красивым, ярким рисунком!
Сокровища вклеивались в специальный альбом. В том альбоме имелись ячейки для сотни наклеек. Тот, кто соберёт все сто, получит путёвку в Грецию на целую неделю!
В свои десять лет я ничего не знала про Грецию. Но когда видела рекламу вафель «Куку-руку» по телевизору, мелькающие на экране кадры с прекрасными видами, зелёными долинами и сказочными лазурными берегами, моё детское сердечко сжималось от счастья. Мечта выиграть путёвку и побывать в Греции овладела мною настолько, что я потеряла покой, сон и аппетит.
Альбом «Куку-руку» имелся почти у каждого ребенка. Кто-то скупал вафли коробками в то время, как нам с братом «Куку-руку» доставались всего лишь один раз в неделю. Именно тогда мы научились терпению и сноровке, вкусив всю несправедливость мира: попробуй, уговори какого-нибудь одноклассника отдать заветный вкладыш! Он знает, что наклейка тебе позарез нужна, хитрит и выкобенивается:
– Ты мне вот эти три вкладыша дай, они же у тебя уже есть! И тогда я тебе вот этот, один.
Ух, жадный буржуй…
Мне снилась солнечная Греция, обёрнутая в фольгу от вафли «Куку-руку», спрятанная в одном из стикеров заветного альбома, утопающая в зелени оливковых деревьев и золоте прибрежных песков. Однако путёвку тогда выиграл кто-то другой. Победителей получилось несколько. Их, счастливых и восторженных, показывали в рекламе плескающимися в голубых волнах… А в моем альбоме уныло пустовали четыре осиротевших местечка для так и не найденных наклеек.
Мне было десять лет: от испытанного разочарования я порвала альбом и поклялась никогда больше не просить родителей купить вафли «Куку-руку». Собственно, они тогда как-то сразу пропали с прилавков. Говорят, теперь снова продают какое-то жалкое подобие тех вафель. Не суть: я всё равно их есть больше не буду. Тем более, что мечта побывать в Греции сбылась. Ровно через тридцать лет.
Глава 1. Путь. День первый.
Предыстория моего путешествия в страну мечты бесконечно долгая. Сначала мне пришлось выйти замуж за турецкоподданного и потратить целых десять лет на проживание в Турции. Потом ещё пять лет – в Нидерландах. Так уж вышло, что моего благоверного перевели по работе в качестве высококвалифицированного специалиста в Европу. Меня и дочь, как бесплатное приложение, отправили вслед за мужем и отцом. Сам Бог, как говорится, велел побывать там, куда звала душа. Правда, случилось это не сразу: пришлось какое-то время уговаривать супруга, который лёгок на подъём и мог поехать в любую европейскую страну, но не в Грецию. Муж-турок расценивал это как предательство, объясняя свой отказ ненавистной и ещё не забытой второй греко-турецкой войной, конфликтом между Грецией и кемалистской Турцией, связанным с греческими ирредентистскими планами. Даже тематические фильмы мне показывал, над которыми я, человек сентиментальный и впечатлительный, взахлеб плакала. Однако, вода камень точит: долгие разговоры за чашкой чая, убедительные речи в пользу приятных цен, яркое солнце вместо задолбавшей всех нас в доску голландской сырости играли мне на пользу. Апогеем оказалось моё признание мужу о детской мечте побывать в Греции. Да и, в конце концов, эта страна очень похожа на Турцию, с единственным отличием – религией. После долгих уговоров мой благоверный, который, по всей видимости, не желал рушить мою детскую мечту, согласился. Правда, сослался на то, что в Греции хотя бы не нужно платить за посещение общественного пляжа и прятаться от озабоченных взглядов. Решение приняли. Оставалось лишь дождаться начала августа две тысячи двадцать второго года.
Мы решили добираться своим путём, на нашем повидавшем виды автомобиле. В «Toyota Corolla» путешествовать одно удовольствие: уютно, как в старом пледе, и экономно, что не менее важно для нашей семьи, где папа умный и работящий, а мама – красивая бездельница. Бездельницей я стала не сразу, конечно, но это уже другая история.
Мы, периодически отвлекаясь на тёплые разговоры, термосы с чаем и бутербродами из мини-холодильника и плейлист с забытыми песнями, не заметили, как подобрались к нашему первый привалу в Альцае – крошечном немецком городке, где всё будто застыло между прошлым и настоящим. В Альцай мы приехали на два часа раньше запланированного времени. Стойка регистрации забронированного отеля пустовала: нам пришлось ждать. Когда всё же появилась сотрудница, она вежливо сообщила, что нас заселят только через два часа, но машину припарковать всё же разрешила. Мы оставили наши вещи в автомобиле у отеля со странной концепцией, совершенно, как мне показалось, не подходящей атмосфере немецкого города, и отправились изучать окрестности.
Альцай показался мне невероятно уютным и даже немного сказочным, благодаря маленьким домикам с кадками герани на широких подоконниках. Мы шли по узким улицам, которые позволили нам погрузиться в уютную атмосферу и увидеть главную достопримечательность – высокий замок Альцай, украшающий старый город. Разбираясь в информации о замке, я прочитала, что первые укрепления на его месте возникли в Каролингскую эпоху. Альцай тогда был королевским двором и упоминался в хрониках времён франкских королей. В период Гогенштауфенов Альцай вошёл в состав их владений. Именно тогда, вероятно, и была построена первоначальная крепость. Замок расширился до дворца в шестнадцатом веке, а затем его разрушили во время войны за Пфальцское наследство и восстановили только в начале девятнадцатого века благодаря Великому герцогству Гессен.
Мы добрались до центра города, съели по мороженому, полюбовались на фонтан Россмарктбруннен, расположенный на оживлённой площади. Название «Россмаркт» произошло от слова «Росс» – старое и поэтичное обозначение лошади. В современном немецком языке чаще можно услышать «Pferd», но «Росс» – слово для литературы и образных названий. Исторически Россмаркт был местом торговли лошадьми. Как и во многих других немецких городах на этом месте в Альцае в определённые дни устраивали конные ярмарки, куда съезжались крестьяне, торговцы и покупатели со всей округи.
– Папа, посади меня на лошадку! – дочь изъявила желание сесть на железную скульптуру на площади.
– Это конь, его зовут Макс, – пожилая жительница Альцая улыбнулась нашей девочке, разговаривая с ней на английском, понимая, что мы не местные. – Макс – такое типичное лошадиное имя, не так ли? Абсолютно подходит для рабочего или тяглового коня. Макс – символическое напоминание, что раньше площадь служила местом торговли этими прекрасными животными. Кстати, приезжайте на фестиваль вина, в котором Макс обязательно поучаствует! Его всегда наряжают, ведь он – талисман нашего города.
Старушка, мило улыбнулась и скрылась за сказочными домиками. А мы двинулись дальше по городу, зашли в изумительный зелёный парк, где фонари и скамейки утопали в цветах: сиреневых благоухающих кустах шикарных роз, каких я нигде не видела.
После того, как мы вышли из парка, моему взору открылась необычная скульптура «Der Bauer und der Teufel»1 , где мужчина пытался сдвинуть букву «Т», на которой сидело нечто. Странное зрелище! Мне вдруг захотелось узнать, что же эта скульптура означает. Оказалось, что композиция основана на местной легенде о Тиль Ойленшпигеле, немецком народном шуте и плуте. По легенде, крестьянин перехитрил дьявола, заключив с ним сделку, при которой последний должен был получить половину урожая. Это напомнило мне русскую народную сказку про мужика и медведя, в которой спорщики договаривались о разделе урожая. Мужик предложил медведю вершки, а себе – корешки. Так же и здесь: хитрый крестьянин сначала посадил корнеплоды – дьявол получил ботву, а на следующий год крестьянин получил зерно, а дьявол – корни. Скульптура – изображение момента их борьбы – человек тянул за букву «Т»2, на которой сидел чёрт в виде животного.
Насладившись вечерними видами города, я вдруг подумала, что его могло бы и не существовать. Незадолго до окончания Второй мировой войны городок чудом избежал уничтожения. Эскадрилья американских бомбардировщиков должна была атаковать железнодорожный мост, но из-за плохой погоды она нанесла удар только по близлежащему Вартбергу. В результате, в старом городе осталось множество красивых исторических зданий. В некоторых местах всё ещё сохранились остатки могучих средневековых городских стен.
Поздним вечером мы вернулись в отель.
– Интересно, кто придумал сделать оформление отеля в морском стиле? – возмутилась я. – Здесь холодная, дождливая, строгая Германия, а не Гавайи…