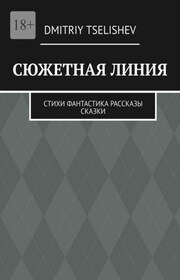Свирепая нежность, или Двенадцать писем сокровенного человека Галим Шаграев
Жизнь – это выстрел в упор.
И культуру – самопознание жизни —
нельзя отложить на потом.
Хосе Ортега – и – Гассет
Письмо первое
СУМЕРКИ
…Я остановился и оглянулся.
Не впервые, конечно: и то и другое делал не раз, порою – по два-три раза на дню.
Почему?
Потому.
Изменилось время.
Изменилось так быстро, что все до этого знакомое стало вдруг неузнаваемым и, как в «Божественной комедии» Данте, превратилось в сумеречно-дремучий лес, в непролазных дебрях которого терялись определенность настоящего и пусть контурная, но все же очерченность, будущего.
…Банальная борьба за власть в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века подняла температуру всех слоев обществ городов-миллионников, и особенно – Москвы.
Флюиды той борьбы, исходя из двух-трех противоборствующих кабинетов державного города, сгрудили на главных улицах и площадях столицы амёбообразно-студенистое колыхание многолюдно-черной толпы.
Лица, заинтересованные в собственном олицетворении самых могущественных институтов государства, двинули ту скользкую студенистую многолюдность на сокрушение действующих институтов власти того времени.
Именно скользкая студенистость многолюдно-черной толпы пробудила во мне первородный, однажды испытанный, но хорошо забытый, – почти животный, – страх.
На гребне толпы витийствовали глашатаи новых горизонтов.
Но, придя к власти и заняв ключевые посты в институтах уже нового государства, почти все глашатаи новых горизонтов занялись политической и экономической реформациями: собственность, которая еще вчера была достоянием всех граждан самого большого в мире государства, переходила в руки немногих, персоналии которых определяли те, кто стал олицетворять наиболее влиятельные институты нового государства.
Перевод громадной – общественной – собственности в пользу немногих лишил многих своей – личной – причастности к целям, задачам и делам всего государства; это сводило на нет уверенность в будущем, а исход уверенности в будущем сбивал центровку души и, как следствие, – нарушал ощущение внутреннего равновесия.
…Потеря определенности настоящего.
Утрата очертаний будущего.
Отлучение от лично выраженной причастности к государству как к своей – главной – собственности.
Исход уверенности.
Сбой центровки души.
Нарушение ощущения внутреннего равновесия…
Этот далеко не полный, но очень четкий чувственно-оценочный ряд личного восприятия материальных и абстрактных объектов реальности не раз заставлял меня остановиться и оглянуться; вот и сейчас, – на исходе чуткой полудремы предутреннего сна, – сознание возвращало мне истоки подлинной причины превращения реальности в вязкие, непролазные дебри сумеречно-дремучего леса, и я снова оглянулся, и понял – звонит телефон; потянулся к трубке и не успел – коротко пикали сигналы отбоя.
Сколько времени-то? – начало седьмого…
Да, конечно, можно еще минуты три-четыре полежать в теплой, уютной постели, причесать мысли, но пора вставать: скоро проснутся жена и дети, и все вернется к заведенному порядку – детки пойдут в школу, я и жена – на работу.
Пройдя на кухню, поставил чайник, и тут же глуховато-тяжелый звук прикосновения чайника и газовой плиты прервал резкий – предсмертный – визг кошки.
Выглянул в окно.
Два одичавших, грязных эрдельтерьера рвали котенка.
Собака, что покрупнее, аккуратно и одновременно брезгливо перебирая челюстями, отгрызла котенку голову, отошла на несколько шагов в сторону, легла на землю и, зажав передними лапами голову маленькой кошки с зажмуренными глазами, также, как незадолго до этого, – брезгливо перебирая челюстями, – аккуратно вгрызалась в основание черепа, добираясь до мозгов.
– Ужас! – тихо произнесла жена.
Я и не заметил как она встала; понял это, когда ее руки обняли сзади за плечи.
– Два дня назад эти же собаки разорвали здесь кошку, – растерянно произнесла Ольга: – У нас что, бобики, тузики, рексы и черри перешли с «Педигри» на кошек?
…А я в это время видел станцию.
Видел грузовые и пассажирские поезда.
Первых было больше.
И везли они на платформах и полуплатформах штабеля круглого и пиленого леса; технику – легковые и грузовые автомобили, трактора, комбайны; стройматериалы – кирпич, цемент, щебень, песок; уголь и удобрения; на специальных платформах для крупногабаритных грузов – упакованные и неупакованные, поражающие громадностью агрегаты; в цистернах – нефть, бензин, керосин, мазут, разные кислоты; в вагонах-холодильниках – мясо, рыбу и другие скоропортящиеся грузы; в пульмановских – зерно, муку, овощи, фрукты…
Станция.
В шестидесятые годы прошлого века – четыре колеи железнодорожных путей.
В семидесятые, с освоением поблизости газоконденсатного месторождения, – пять.
Станция.
Место, где почти всегда что-нибудь грузили или разгружали.
…Соседние четыре колхоза и совхоз отправляли отсюда на мясокомбинаты овец, свиней, коров, лошадей и даже верблюдов; на фабрики – шерсть, кожи; на переработку и в торговлю – овощи, фрукты, рис и, конечно, – в череду неровно-ломких черных и светло-зеленых полос, чуточку продолговатые, с ярко-желтыми отметинами пролежин, увесистые, знаменитые астраханские арбузы, сотни тонн которых я перенянчил и своими руками, работая во время школьных каникул на заготовительном пункте, а разгружали здесь технику, горючее, удобрения, стройматериалы, муку, соль…
Станция.
Место перемещения великого множества грузов.
Грузы…
Точнее – составы грузов; впервые увидев их еще маленьким мальчиком, я удивился великому множеству вещей, еще больше – невидимой и непонятной стороне того множества – все, что двигалось, приходило неизвестно откуда и уходило неизвестно куда, и долгое время казалось мне одним, но многоликим существом, которое само по себе преодолевало большие расстояния; по мере взросления, я, конечно, понял, – за движением грузов скрывались молчаливые воля и труд многих и многих неизвестных и чаще всего очень далеких от меня людей, благодаря замыслам которых изделия и продукты в определенные сроки доставлялись туда, где они были востребованы, но, даже выявив свою скрытую суть и приняв очертания конкретных предметов человеческого труда, непрестанный грузовой поток не терял властительной составной незримости и оставлял за собой следы; выражением следа грузов был характерный набор звуков и запахов.
Звуки…
Разной тональности – то тягуче-протяжные, то спокойно-уверенные, то резко-короткие тепловозные гудки проходящих, делающих остановку или трогающихся с места составов; жестко-резкий металлический скрежет одновременно сдавленных или отпущенных тормозными колодками колесных пар множества вагонов; последовательная череда сначала сильных, затем – приглушено-тающих к концу составов ударов сцепленных между собой вагонов; короткие или длинные свистки составителей; блеяние овец, хрюкание свиней, мычание коров, ржание лошадей, особенный, не похожий ни на что – глуховато-внутренний, долгий – одновременный и рев и стон – верблюдов; людское разноголосье запасных путей, на которых обязательно что-нибудь грузили или разгружали; все это многообразие звуков тесно сплеталось с набором очень стойких и сложных запахов.
Запахи…
Станция была пропитана, напичкана ими, и, независимо от времени года, над всеми ее путями витали то смолистые, отдающие свежестью чистоты веяния далеких лиственных и хвойных лесов, которые я видел только на фотографиях и картинках из газет, журналов и книг, то кисловато-горькие распространения нефтепродуктов, и – вначале бьющие в нёбо, а затем медленно оседающие на зубах и языке и переходящие в кисло-металлический привкус ощущения большой массы металлов, то холодновато-тяжелые истоки мороженого мяса и рыбы, то летуче-легкие, сладкие ароматы овощей и фруктов…
Станция.
Место, где я увидел и ощутил пульс экономики огромной, могучей страны.
Экономика выражалась кратко, четко, емко.
Обозначала одним словом целевое назначение вагонов и цистерн.
Двумя, а нередко тремя числами показывала их грузоподъемность.
Писала мелом чьей-то вечно торопливой рукой на дверях вагонов или бортах платформ и полуплатформ названия станций отправлений и назначений и Архангельск или Махачкала, Воскресенск или Тольятти, Хабаровск или Минск, Тюмень или Волгоград, Казань или Челябинск, Тамбов или Ростов-на-Дону, Свердловск или Гурьев, Алма-Ата или Ташкент становились для меня такими же близкими, как родная Астрахань, что была в ста километрах южнее.
Экономическую географию я узнал раньше, чем таковой предмет в школе.
…Насыщенно-оранжевыми весенними и летними или густо-синими осенними вечерами я со сверстниками часто ходил на, как мы называли его между собой, – Бродвей, – залитый светом фонарей перрон станции.
Перрон – место обязательных встреч, прогулок, свиданий.
А поезда шли и шли.
С севера на юг.
С юга на север.
В те вечера на станцию приходило большинство пассажирских поездов.
Приходило с постоянством судьбы в одно и то же время.
Они везли людей в далекие города, а, может быть, и страны.
С севера на юг.
С юга на север.
За полуосвещенными окнами вагонов люди читали газеты, журналы, книги.
По отдельности или группами ели, а могли просто лежать или спать.
Мне же больше нравились те, кто сидел у окна и думал.
…Щемящее чувство дороги и движения представлялись тогда уходом от привычного и достижением явно существующего за горизонтом чего-то незнакомо-привлекательного, необъяснимо-притягательного, и я представлял, как меняются на глазах людей картины необъятных пространств, и не раз мысленно пересекал с пассажирами тех поездов просторы великой страны – страны, которая незримо делала великим и меня и мою маленькую, степную, железнодорожную станцию с удивительно-ласковым названием Сероглазово.