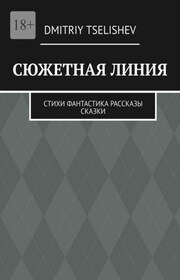Пора отлёта: повести осени Елена Яблонская
В оформлении обложки использована репродукция картины Василия Поленова «Золотая осень»
© Яблонская Е.Е., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Проза Елены Яблонской погружает читателя в светлый и удивительно добрый мир. Этот мир не вымышлен – более того, всё, что происходит в повестях Яблонской, абсолютно документально. Жизнь автора и её героев типична для поколения, взрослевшего на излёте советского государства, и весьма далека от идеала и благополучия. Елена Яблонская родилась в Ялте в 1959 г. Окончила Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова и Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Кандидат химических наук. Работала химиком-исследователем, редактором и переводчиком научно-технической литературы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Черноголовка Московской области, наукограде, получившем в прозе Яблонской ироничное название Курослеповка, однако населённом творящими науку людьми. Хотя все повести автобиографичны, они никак не относятся к так называемой «женской прозе», описывающей на все лады взаимоотношения полов. Тем не менее, проза Елены Яблонской – о любви. О Любви к Родине, к великой русской литературе, к семье, к друзьям, сохраняющим мир науки, о жизни и судьбе самой науки и вошедшего в неё без оглядки народа. Так и с такой любовью после Вениамина Каверина об учёных, кажется, никто не писал. В повестях Елены Яблонской – без остатка – вся жизнь, такая родная, такая своя, которую ни на какие перестройки, реформы не отдашь, не променяешь, и если начнёшь сначала, то проживёшь так же. Жизнь по вере.
Полина Рожнова,
поэт, член Союза писателей России
Пора отлёта
Вы воскресили прошлого картины,Былые дни, былые вечера.Вдали всплывает сказкою стариннойЛюбви и дружбы первая пора.Пронизанный до самой сердцевиныТоской тех лет и жаждою добра,Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный,Опять припоминаю благодарно.Гёте. Фауст (перевод Б. Пастернака)
Я ехала в маршрутке в Москву. Сидящий напротив парень был невероятно похож на одного моего друга, русского немца, уехавшего в Германию двенадцать лет назад. Навсегда.
В те годы в «Литературной газете» появилась статья о русских немцах: «Не хочу, чтобы он уезжал». Я тоже не хотела, чтобы «он» уезжал, но тогда, в середине девяностых, это почему-то казалось неизбежным. Почему? Гораздо сильнее меня тогда расстроила большая фотография в той же «Литературке»: старик в сванке на фоне оплетённых бутылей и связок лука. И подпись: «Грузия, не уходи!» Грузия ушла, но зачем было уезжать немцам, которые появились на Руси задолго до Петра и Екатерины, как и все наши на первых порах «немые» фряны-итальянцы, французы, англичане, шведы? А для меня первой русской немкой остаётся Екатерина Великая, до конца дней своих говорившая с акцентом и всё равно – русская государыня-матушка!
Через пятьдесят лет после Екатерины один потомок шотландцев напишет: «Его фамилия Вернер, но он русский. В этом нет ничего удивительного…» Конечно, Михаил Юрьевич. А ничего, если я пропущу лесковских немцев с Васильевского острова? Дело в том, что Лесков писал не только о немцах, русских, татарах, англичанах, цыганах… Он также написал лично обо мне. Да-да! В «Соборянах» протоиерей Туберозов возмущается поведением ссыльного полячишки, который глумится над православным обрядом и вообще всячески мутит воду в застойном уездном болотце. Громы и молнии мечет отец Савелий на головы зловредных ляхов и вдруг добродушно спохватывается: «А впрочем, чего мы гневаемся-то? Ведь уже внуки и даже дети этих поляков будут точно такими, как мы, русскими…»
А я даже не внучка, а прапрапраправнучка. Понимаете? Но я о немцах.
Моего любимого немца звали Эдвин. Эдвин Теодорович Байер. Имя Эдик ему категорически не шло. Я звала его исключительно Эдькой, официальные лица вроде завлаба Льва Яковлевича величали Эдвином, а ребята – попросту Фёдорычем. Да и на дверях кабинета Эдькиного отца, в молодости кемеровского шахтёра, а в восьмидесятые партийно-профсоюзного босса, значилось «Байер Ф. О.». Фёдор Оттович.
Предки Эдьки и с папиной, и с маминой стороны приехали в Россию при матушке Екатерине. Причём Фёдор Оттович приходился мне земляком: я ведь крымчанка, а дед Отто Байер до революции владел рыбокоптильней в Керчи. Но ещё в большей степени землячкой считал Эдька мою закадычнейшую подругу Тамарку Фераниди, чей папа, Константин Герасимович, завкафедрой Воронежского строительного института, был потомком феодосийских греков. А уж бабушка Олимпиада Константиновна, которую все, от мала до велика, звали тётей Патей, столь темпераментно беседовала с соседками на улочках тихого Задонска, что, приезжая туда с Тамаркой, я чувствовала себя в ялтинском дворе моего детства. Предки Эдькиной мамы – петербургские немцы – были потомственными лекарями, и прадед даже лечил кого-то из великих князей, за что и был сослан в Архангельск в соответствующие времена. Эдькина архангельская бабушка, Мария Владимировна Пиккель, профессор-педиатр, выйдя на пенсию, переводила Рильке. С родного языка на родной.
К сожалению, ни мама Эдьки, ни тем более Фёдор Оттович почти не говорили по-немецки. А Эдька знал, кажется, только «натюрлих», да и с английским была беда, как, впрочем, и у всех сотрудников нашей маленькой лаборатории. По крайней мере, кандидатский минимум все наши ребята пересдавали многократно с какими-то невероятными приключениями. Кроме меня, естественно, – спасибо английской школе. Это обстоятельство, как ни странно, и определило мою дальнейшую, после-перестроечную судьбу.
Шеф наш, Лев Яковлевич, именуемый за глаза просто Яковличем или Профессором, говорил по-немецки блестяще. А по-английски читал, разумеется, химическую литературу и очень сносно, по-моему, общался с коллегами на международных конференциях, но вот с написанием собственных статей испытывал затруднения. Непрерывно лезть за консультациями к Светлане Ивановне, референту директора Института академика Шумова, было неловко по причинам деликатным. Светлана Иванна, пикантная дамочка бальзаковского возраста, великолепно владела английским – как-никак иняз плюс лет пятнадцать работы в нашем физико-химическом институте, но просто и быстро помочь человеку ей почему-то никогда не удавалось. Всё закатывание глазок, хохот, кокетство, «ужимки да прыжки». «Это, конечно, прекрасно, но отнимает слишком много времени», – серьёзно говорил Аркадий, сосед Эдьки по общежитию и аспирант дружественной лаборатории лазерной спектроскопии.
А я как-то «без отрыва от производства», кося одним глазом на раствор, медленно капающий из колонки с силикагелем, переводила разнообразные подписи к слайдам, тезисы для конференций, доклады, а потом и целые статьи. Аркадию и прочим «пришельцам» помогала «за шоколадку», а внутри лаборатории эта моя деятельность по распоряжению Профессора стала поддерживаться на официальном уровне.
В голодном девяносто втором, когда мужественный наш Академик со смехом рассказывал на семинаре, как он ходил к Гайдару просить денег на науку и получил «полный отлуп», «Журнал новых химических проблем» потерял нашу статью. Я ездила в редакцию разбираться. «У нас тяжба с „Химпроблемами“», – жаловался Лев Яковлич Академику. Статью вскоре нашли и благополучно опубликовали, а я осталась в редакции внештатным переводчиком. В девяносто пятом, когда почти все разъехались, а Профессор и Эдька сидели на чемоданах, я ушла в штат редакции. Навсегда. Присутственные дни – со вторника по четверг. Очень боялась, что Академик не отпустит. Но старик сказал грустно: «Я вижу, вам там интереснее». Вот почему я еду в настоящий момент в маршрутке «Академгородок – Москва», а сидящий напротив парень необыкновенно похож на нашего Эдьку.
Эдвина Байера распределили в институт после химфака новосибирского университета. «Он химик, он ботаник!» – провозгласил Фарид Ахмеджанов, переигравший в своё время в студенческом театре все мужские и старушечьи роли из «Горя от ума». Появление химика в нашей лаборатории фотохимического синтеза и катализа было очень кстати. Вам может показаться странным, но беда была не только с английским, но и с химиками. Конечно, Лев Яковлич – великий синтетик, но он то в дирекции, то на учёном совете. Володька Ким – талантливый химик и отличный товарищ, но он вечно на стажировке в Голландии, куда его пристроил заботливый шеф. Остальные – физики: замзавлаб Ашот Саркисович, Фарид да Витька Дедович. Пока не появилась прикомандированная из Баку Гюлыпен, я была единственной женщиной, единственной аспиранткой и единственным постоянно действующим синтетиком в лаборатории. Правда, на первых порах очень помогал Профессор. С Гюлей стало уютнее, но проблем не убавилось. Понимаете, с тем, чем могли помочь наши физики, мы худо-бедно и сами справлялись, а вот установку запаять или капилляр для вакуумной перегонки оттянуть, да и просто посоветовать что, если синтез не идёт… А прикатить газовый баллон или дьюар с жидким азотом со двора притащить совсем даже не тяжело.