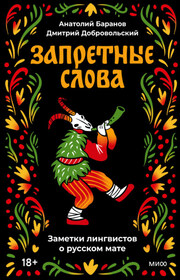Легенда о церкви-призраке. Часть 1 Александр Медведев
© Александр Геннадьевич Медведев, 2025
ISBN 978-5-0067-3395-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-3396-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Загадочный купол
Удивительно, какой потрясающей фантазией обладали мастера-архитекторы XIX века. Да не только в XIX веке. Такие необыкновенные художники жили и в античной Греции, и в средневековой Европе, в эпохе возрождения, и в эпохе модернизма начала XX века. Италия, Франция, Россия, Голландия, да не перечислить всех стран, где возводились настоящие архитектурные шедевры. У современных архитекторов вся инженерная мысль заканчивается созданием прямоугольной коробки из стекла и бетона. И российские, и западные мастера градостроения заметно по истощились в фантазиях…
Яркая вспышка молнии резко озарила силуэт огромной трёхъярусной колокольни из красного кирпича, сводчатую арку и лик Божьей Матери, располагавшийся прямо над входом. Седьмое мая выдался на редкость тёплый и солнечный, но к пяти часам дня начали сползаться густые тучи, поднялся холодный ветер, и к девяти вечера небо заволокло так, что сделалось темно, как ночью. Вот-вот разразится ливень. В след за молнией раздался оглушительный громовой раскат. Казалось, рухнуло само небо. Он точно пытался вдавить меня и всё живое вокруг в крепкий асфальт дороги. К счастью, массивные стены колокольни, возле которых я сейчас стоял, словно защищали и отводили удар от любого путника, оказавшегося неподалёку. Ждать больше нельзя, через мгновение начнется настоящая буря. Я осторожно постучал в тяжёлую дубовую дверь, украшенную двумя православными крестами.
Секунду спустя замок, с другой стороны, загремел и дверь отворилась. На пороге стоял невысокого роста пожилой батюшка с небольшой седой бородкой. Из всего церковного облачения на нём была только скуфья. Одет он был в обыкновенную мирскую одежду – брюки и рубашка темного цвета.
– Отец Алексей? – спросил я.
– Да, это я! – ответил батюшка. – Проходите, пожалуйста!
Я вошёл внутрь в ярко освещенное помещение. Когда-то это была обычная колокольня при монастыре, а теперь переделана в маленькую церквушку. Я уже не раз бывал тут. Здесь какое-то невероятное место силы, теплоты и уюта. Здесь тишина и умиротворение. Слева иконостас и две потрясающей красоты иконы в человеческий рост, Благодатное Небо и Николай Чудотворец. Я никогда не видел ничего более восхитительного. За иконостасом арка, загороженная гардиной. Наверное, там какое-то подсобное помещение. Покуда отец Алексей запирал за мной дверь, я снял с головы капюшон, перекрестился перед святыми.
– Ну что, пойдёмте! – раздался его голос.
Я повернул голову. Отец Алексей перебирал в руках связку ключей, взгляд усталый, задумчивый, и какой-то очень грустный. Здесь, на ярком свету, лицо священника показалось мне знакомым. Да-да, я уже видел его раньше, где-то в конце девяностых. В одной небольшой церкви на севере Москвы, название которой я уже даже и забыл. Правда, тогда отец Алексей был на много моложе. Мне запомнился этот приятный батюшка из-за одной комичной ситуации, которая произошла в храме. В церковь пришёл молодой человек из поколения, что называется «новых русских». Почти на лысо бритая голова, пивной живот, цветастые шорты с торчащей из заднего кармана антенной сотового телефона. Судя по всему, Господь не обидел его силушкой, но вот умом обделил начисто. Отец Алексей был занят, возился около иконостаса. Молодому человеку, видимо, что-то очень нужно было спросить у священника, но как к нему обратиться, он понятия не имел. Он подошёл к батюшке со спины и начал произносить нечленораздельные звуки:
– Э!.. Э!.. Дядь!.. Не?.. Э!.. А!.. Это… Поп?
Минут через пять отец Алексей догнал, что сие обращение относится именно к нему, что «поп» – это как раз он и есть, и оглянулся:
– Да, сын мой!
На лице молодого человека отразилась явная радость, что его невнятное лепетание наконец достигло цели, и он, наморщив лоб, принялся излагать суть дела.
– Это… ну… Бать!.. как тут… это… тёлку сбрызнуть?
Батюшка крайне удивился, но любопытство взяло верх, и он продолжил слушать.
– Ну это… как там у вас?.. кунают?.. или чё там… ныряют? – горячился молодой человек.
Ангельскому терпению отца Алексея можно было только позавидовать. Спустя пол часа, он всё-таки выяснил смысл проблемы, обрушившейся на несчастного сына Божьего. Оказалось, молодой человек пришёл в церковь не один, а со своей девушкой. И девушка имеет страстное желание по креститься…
– Прошу за мной! – ещё раз повторил отец Алексей. Он отодвинул в сторону иконостас, отбросил гардину. – Смелей, прошу вас!
– Как, сюда?
Этот вопрос вырвался у меня непроизвольно.
– Да, вход в подземную галерею находится прямо здесь! – с некоторым смущением ответил батюшка. – Осторожней, берегите голову!
Отец Алексей взял с полки фонарь, зажёг его. Я пригнул голову и осторожно проследовал за священником. Хотя здесь можно было вовсе и не опасаться удариться головой. Потолок в подсобке был таким же высоким, как и в главном зале. Вся комната заставлена церковной утварью, старой мебелью, какими-то непонятными для меня предметами для богослужений. Тут же стоит стул с отломанной ножкой, на нём нагромождение из отслуживших подсвечников, рядом штабелем сложены аналои. Чуть поодаль обшарпанная микроволновка, видимо не работающая, и на ней электроплитка. Около них целая батарея пластиковых бутылей с елеем. Отец Алексей, осторожно пробираясь через всё это добро, повёл меня в самый конец подсобки. Там он свернул направо, и я увидел крутую каменную лестницу, ведущую наверх к звоннице.
– Будьте добры, подержите! – батюшка передал мне в руки фонарь, а сам, согнувшись пролез под первый ярус лестницы и начал отворачивать лежащий на полу старый затоптанный ковер. Под ковром оказался деревянный люк. Отец Алексей вытащил связку ключей, снял навесной замок с люка. А вот открыть его оказалось делом непростым. Вдвоём с отцом Алексеем мы с огромным усилием подняли тяжеленную крышку, окованную железом и усиленную толстыми деревянными рёбрами. Ржавые петли заскрипели, и вот, наконец, крышка отвалилась в сторону, освобождая чёрный зияющий проход. Я посветил туда фонарём. Луч фонаря утонул в темноте, озарив только деревянную лестницу, почти вертикально сходящую вниз.
– Раньше лестница была хорошая, каменная! Но потом она развалилась, пришлось сделать деревянную! – словно оправдываясь, пояснил отец Алексей.
Я наклонился над этой чёрной дырой, больше напоминающую вход в преисподнюю, и внимательно посмотрел вглубь. Оттуда пахнуло сыростью и спёртым запахом подвала…
1980 год. Москва. 20 июля.
– Собирайся, кому говорю! Время уже одиннадцать, опять никуда не успеем! А сегодня, передавали, после обеда дождь будет! Сам же вчера «отдуху не давал»: «хочу в Петра Алексеева сходить»! А теперь тянешь!
Понять жаргон моей бабушки мог только я сам.
Я сидел на полу возле кровати, обложившись пластмассовыми игральными шашками, полностью погружённый в увлекательнейшую и сложнейшую игру, которую, даже «взрослые» мальчики одолевали с трудом, не говоря уже про меня, восьмилетнего ребёнка. Передо мной разворачивалось нешуточное сражение шашек против шахмат. Сами шахматы стояли грозной шеренгой на противоположном конце комнаты, у окна. И намерения у них были самые, что ни есть воинственные – атаковать позиции шашек по всему фронту! Я в данный момент играл за шашек. Мои действия заключались в том, чтобы поставить шашку на ребро и сильно вдавить её пальцем в пол. Шашка выстреливала, долетала до неприятеля, и не переставая бешено крутиться в обратную сторону, возвращалась ко мне. В этом и состоял смысл игры – шашка должна была сбить одну из шахматных фигур. Если же шашка не возвращалась или падала на бок от удара по цели, не причинив ей вреда, то она считалась съеденной. Поразить шахматы на таком расстоянии оказалось делом непростым. Ряды шашек редели с каждой минутой, а мрачная стена чёрных шахматных фигур даже и не думала отступать.
Я настолько увлёкся игрой, что даже забыл, что сегодня бабушка обещала сводить меня в «Петра Алексеева», и что я последние два дня действительно «не давал ей отдуху». «Петра Алексеева» – это парк, названный в его честь. Кто такой Пётр Алексеев я особенно не вдумывался, но был на все сто процентов убеждён, что это какой-то очень выдающийся революционер, раз его именем назвали целый парк. Ибо в Советском Союзе объекты культурного наследия называли только именами коммунистических деятелей. Уже гораздо позже, будучи взрослым, я узнал, кто такой Пётр Алексеев на самом деле. Моему удивлению не было предела – восьмилетний ребёнок оказался прав! Пётр Алексеев точно был самым первым революционером в царской России, за исключением одного маленького нюанса – он никогда не посещал и вообще не был связан с теми местами, где сейчас расположен парк, носящий его имя! Он был рабочим ткацкой фабрики Смоленской губернии в середине XIX века.
«…Подымится мускулистая рука миллионов рабочего люда и ярмо деспотизма, ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах.» – да-да, это его слова, произнесённые на царском суде 21 марта 1877 года.
Бабушка часто рассказывала мне о загадочном и таинственном парке с невероятными прудами, развалинами древнего замка, с огромным водопадом, с чудо-беседкой, где отдыхали господа, любуясь потрясающими видами на воду. И я, конечно же, загорелся отчаянным желанием увидеть это всё своими собственными глазами.