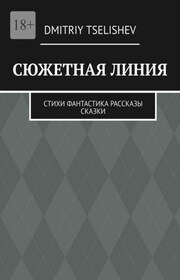Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы Алексей Григоренко
© Алексей Григоренко, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Историческое молчание
Предуведомление автора
Пантелеймон Кулиш в книге «История воссоединения Руси» подводит довольно горький итог, рассуждая о начальных козацких войнах в Речи Посполитой, приведших через полвека к частичному краху как самого государства – утрате Малороссии, так и к окончательному исчезновению Польши с политической карты тогдашнего мира – в результате трех разделов восемнадцатого столетия: «Два только источника существуют для истории второго козацкого восстания (1-е – под предводительством гетмана Криштофа-Федора Косинского, 1593 г. – А. Г.), Гейденштейн и Бельский, да и те во многом противоречат один другому. При том же оба эти источника суть свидетельства стороны противной, и потому мы не имеем никакой возможности исполнить правило: audiatur et altera pars. Вообще, это важная потеря для русской истории, что украинские козаки, эти главные деятели торжества Руси над Польшею, оставили по себе так мало памятников своей деятельности. Кровь их пролилась как вода на землю и не оставила даже пятна по себе. Энергический дух их отошел в вечность, не заградивши уст хулителям своим; а их потомки лишены утешения слышать посмертное слово предков, каково оно ни было. И вот мы разворачиваем чуждые сказания о нашем былом и устами исторических врагов своих поведаем миру понимаемые до сих пор двусмысленно, сбивчиво, часто крайне нелепо дела героев равноправности» (Кулиш П. А. История воссоединения Руси, т. 2, с. 117. СПб, 1874).
Пожинаем же эти плоды исторического молчания народа: даже само имя собственное героя нашего повествования, гетмана и предводителя 2-й козацкой войны Наливайко, текуче, непостоянно и вариативно. Так, в трудах и первоначальных изысканиях знаменитых историков Х1Х века имеем такую картину:
анонимная «История русов», приписываемая архиепископу могилевскому Георгию Конисскому, и Николай Маркевич называют нашего героя – Павло;
Владимир Антонович и Николай Костомаров – Семерый;
Боркулабовская летопись – Севериня;
тот же Пантелеймон Кулиш – Семен;
другие источники, включая Википедию, соцписателей вроде Ивана Ле и марксистских историков уже несуществующего СССР, – Семерин, Северин и даже Северий (вполне на древнеримский манер – если сделать ударение на 2-м слоге).
Так как же все-таки звали нашего героя?
Ответом будет все то же молчание.
Я писал не историческое исследование, но роман, потому из всех вариантов избрал имя героя согласно анонимной «Истории русов», с опубликования которой в начале ХIХ столетия и началось заинтересованное изучение образованным обществом далеких исторических событий Малороссии, давным-давно к этому времени интегрированной в процесс общерусской истории, общерусской политики и общерусской культуры. Потомки отважных воителей за свободу, правду и святоотеческую веру, о которых и рассказывается на этих страницах, стали мирными «гречкосеями» и мелкопоместным малороссийским дворянством со своим благодушным, зачастую химерным мирком, вошедшим в русскую литературу тщанием Н. В. Гоголя, предки которого – Лизогубы и Гоголи – тоже в свою очередь были отважными и заметными фигурами в давней военной истории края.
Николай Васильевич не устоял перед искушением составить всеобъемлющий исторический свод: «Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых, или в четырех больших томах» (письмо к М. Максимовичу от 12 февраля 1834 года. Такая самонадеянность и безоглядность, вероятно, свойственна только лишь юности – Гоголю 25 лет), но уже к 6 марта того же года, то есть всего через 24 дня, наступает отрезвление: писатель столкнулся все с тем же историческим молчанием – практически полным отсутствием достоверных материалов, о чем он сообщает в письме И. И. Срезневскому, и – отступил… «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольно (если бы он даже был недеятелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ… (Тут Гоголь отчего-то прервал свою мысль, – но мы сегодня, через без малого 200 лет, можем поразмыслить все же о том, о чем в некоей печали и разочаровании не договоривает писатель. – А. Г.) Я не доволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах; впрочем, они могли знать хорошо только со времени унии, но и там ни одного летописца с нечерствою душою, мыслями. Если бы крымцы и турки имели литературу, я бы был уверен, что ни одного самостоятельного тогда народа в Европе не была бы так интересна история, как козаков. И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начинавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади были уже украдены…»
Так и неосуществленный шеститомник (или четырехтомник) преобразовался в «Отрывок из истории Малороссии» и в статьи «О малороссийских песнях» и «Взгляд на составление Малороссии», вошедшие в сборник «Арабески», ну и, конечно же, в бессмертную повесть «Тарас Бульба».
У Гоголя – оставались исторические и героические песни, туманные свидетельства, больше похожие на мифы и апокрифы, полученные из третьих-четвертых воспоминаний по восходящей от долгожителей козацких родов Гетманщины, которым прадеды что-то такое рассказывали, пока они сидели мальчонками под столами в крестьянских хатах. Что же имеем мы, насельники ХХI века, кроме печальных известий о том, что сегодня происходит на Украине?..
Отступить ли и нам, как некогда отступил Гоголь? Или все же попытаться преобразовать художественной догадкой, метафизическим прозрением это историческое молчание, эти жалкие крохи известий, обрывков и лоскутов «чуждых» и «вялых» летописей, в которых высверками, на сущее мгновение, появляются зачастую исполинские фигуры нашей безъязыкой истории, мужественные лица людей, каковых больше нет и, вероятно, больше не будет, которые в неустрашимом дерзании и безоглядности закладывали основы нашей противоречивой, драматичной и зачастую трагичной истории, которая до сей поры происходит с каждым из нас. Но все начиналось – с молчания и мглы канувших, прошедших веков. Нам уже не услышать тех песен, которые так любезны были сердцам Гоголя и Максимовича, но мы все же – дерзаем «понудить себя на художество» – по слову древнерусского северного святого преподобного Кирилла Челмогорского, – ибо другого выбора у нас нет.
В своей многолетней работе над текстом я использовал все доступные мне источники, хроники и поминания, как русские (под этим именем я разумею триединый по моему убеждению народ – в сегодняшней терминологии: русских, украинцев и белорусов, в терминологии же описываемой эпохи конца ХVI столетия – московитов, русинов и литву), так и польские, но и в совокупности достоверный исторический материал весьма скуден, потому более всего я полагался на свою историческую интуицию, за возможные переборы и сгущения которой я заранее прошу прощения у читателя. Но в целом – даже не Павло (Северин) Наливайко является главным героем повествования, но то эпохальное событие конца ХVI столетия, до основания потрясшее все общество Речи Посполитой, включая и поляков-католиков, расколовшее на более чем четыре столетия украинский народ и принесшее неисчислимые беды – Брестская уния 1596 года, названная полемистами ХVII столетия настоящей костью раздора, разорвавшая единое до того духовное средостение народа Юго-Западной Руси, который позже назывался черкасами (по наименованию крепости на Днепре), козацким народом, русинами, малороссами и затем уже украинцами.
Развитие этой темы, быть может, с некоторым публицистическим заострением читатель найдет в примечаниях, разбросанных в тексте. Там же помещена и достоверная краткая информация об исторических деятелях, помянутых на страницах романа, и отчасти о последующих событиях, произошедших уже за хронологическими границами этого повествования.
Отдельно надобно сказать о «Записках Арсенка Осьмачки», ставших неотъемлемой частью наших «Хроник». Они были обнаружены мною в древлехранилище Свято-Успенской Почаевской лавры в середине 1990-х годов и требуют нескольких пояснительных слов для сегодняшнего читателя. Волею судьбы и сложившихся обстоятельств киевский бурсак конца ХVI столетия, отягощенный схоластическим богословием и обрывками разнообразных познаний, не свершил свой жизненный путь, как тысячи его однокашников, затерявшихся в бескрайних просторах и бесчисленных селах Юго-Западной Руси, сегодня называющейся Украиной, где они научали грамоте козацких и селянских детей, сочиняли драматические и комедийные тексты для вертепных театров, колядки и песни, ставшие со временем основой «красного виршевания» и «красного письма», то есть будущей литературы этого обширного и благодатного края. Некоторые из однокашников Арсенка стали со временем епископами и были призваны на служение российскими императорами, а прежде царями, на внутренние российские кафедры – в Архангельск, в Тобольск, в Ростов, где лучшие из них просияли чудесами и святостью и до сей поры почитаемы в общерусском сонме святых.