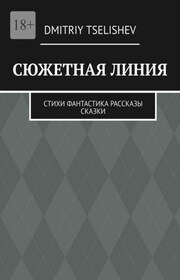Жизнь как жизнь Александр Семенов
Моим друзьям живым и ушедшим
в мир иной посвящаю эту книгу
Часть первая
Вторую неделю морозы стояли за тридцать с гаком. А перед этим метели дули дней десять. Снегу намело вровень с заборами. Алёна Матвеевна кое-как пробила траншейку до поленницы с дровами, да к калитке сараюшки. Печурку топить надо, да и козушке сенца бросить. Корову Матвеевна уже пятый год не держит – на неё сена надо прорву. Разве ей накосить? А козёнку содержать ещё можно.
По улицам Борька Пашухин бульдозером своим проехался туда – сюда, нагрёб на обочины глыбы аршина на полтора. Глыбы смёрзлись – хоть колуном коли, лопата не возьмёт. Вот и сидит Матвеевна дома в застенках. Через бруствер не перебраться. Продукты кончаются, хлеба нет. Муки не запасла, надеялась, что лавка из Ковернино возить будет. Свою-то пекарню в деревне давно порушили. А газелька видимо не пробьётся. Хорошо хоть картоха под полом ещё есть.
– Господи! – Матвеевна бросила взгляд на образа в красном углу избы, – хоть бы из детей кто-то приехал, бруствер бы этот сломал, а то, если и лавка приедет, на улицу-то не выбраться.
Хорошо, хоть Борька дорогу пробил, а то бы и по улице не протолкнуться. А справный мужик – Борька Пашухин. Как-то в смутные те года сумел тракторишко к рукам прибрать. Чай не задаром, да и не задорого поди. Где бы задорого денег ему взять? Зато теперь мы, старушонки, ему на соляру по копеечке соберём, он дорогу-то и прочистит. Вот только брустверы расковырять некому.
– Ой, Господи! Хоть бы дети, кто-нибудь, приехали! Да как они приедут – дорогу-то чай замело.
В Нижегородской-то поди расчистили, а Борька до Борихи, видать не доехал.
А как ладно-то было, когда в деревне народу тьма жило. Да, что народу – коров два стада по сто голов было. Ай-ай-ай! Что это я про коров-то. Детей семеро – все рядом были. Правда около меня только Степашка да маленькая Верочка кружились. Остальные с утра до вечера в лесу работали. Вечером приедут, умоются, поедят и в клуб до полуночи. А ещё лучше было, когда Андрей был жив. Благодать! Хоть и ругались частенько. А кто не ругается?… Жизнь, как жизнь…
Нет, ребята, наверное, не приедут – далеко их разнесло: кто в Самаре, кто в Сталинграде, кто в Казахстане. Как-то надо самой выкарабкиваться. Ой, да надо печку протопить, а то к ночи изба выстынет.
Алёна Матвеевна накинула на себя плюшевую жакетку, повязала поверх платка пуховую шаль (Степашка в один из отпусков в подарок привёз) и вышла из избы. По траншейке добрела до поленницы, покрытой полуметровым сугробом, натаскала из серединки поленьев, сложила их на левую руку, правой обняла сверху и понесла в избу к печке. Затем вышла в сени за смоляной растопкой. Горка мелко наколотых смолянистых сосновых щепок в углу лежала. Матвеевна выбрала несколько лучинок, залезла рукой в короб, достала кусок бересты. Прикинула: до весны растопки должно хватить.
Сложенные между двух полешков береста и смоляные лучинки загорелись от одной спички, затрещали, заискрились. Матвеевна положила наискосок ещё два поленца, прикрыла дверку печки и стала ждать, пока разгорится. Потом пошла в упечь (кухню) взяла чайник с водой и поставила его на конфорку – « Нечего теплу даром пропадать». Наложила на занявшиеся огнём поленья ещё дровишек, принесла маленькую скамеечку, поставила её рядом с печкой и присела. Как языки пламени с жадностью слизывали сначала мелкие древесные ворсинки и отщепочки, а потом занималось всё полено, так и память слой за слоем восстанавливала прошлое.
Андрей вернулся с войны в предзимье – картошка уже выкопана, а капуста была ещё не рублена. Ждали первых морозцев, чтобы она свернулась в тугие вилки. Пришёл он домой на костылях без левой ноги. Да пришёл не один, а привёл с собой такого же как и сам горемыку безногого. Алёна помогла мужикам раздеться, повесила на гвозди в стене их шинели. Тут же прискакали откуда-то Нюрка с Глашкой, бросились к отцу.
– Тятя! Тятя! Вернулся! – обвили его своими ручонками.
Четырёх летний Лёшка стоял у печки насупившись. Потом подошёл к мужикам, посаженным Алёной за стол, и выдал:
– А чего расселись? Забирайте свои шинели и уходите отсель!
– Лёшенька, Лёша, ты что! Это же твой тятя вернулся! – всполошилась Алёна. – Как так можно, сынок?
Мальчонка забился в угол, сопел. Алёна ухватом выкатила из печи чугун, налила большим деревянным половником в глубокое блюдо зелёных щей, поставила перед мужиками.
– Хлебайте щти-то пока не остыли, а я сейчас картошечки ещё принесу. Нюрка! Глашка! Садитесь за стол, я и вам сейчас щей налью.
Андрей хлебнул несколько ложек постных щей, посмотрел на Алёну и спросил:
– А Василко-то где?
– Так в школе ещё. Скоро примчится.
Василко – это их первенец. Последний год в школу ходит – седьмой заканчивает. Большой уже. Во всём помогает. Как бы не он совсем было бы не в мочь Алёне управляться. Девчонки тоже помогают: на них огород, куры, уборка в избе. Нюрка тоже большая – десять уже. Глашка только в первый класс пошла.
Мужики поели.
– Алёна, ты бы нам баньку истопила, а то мы за дорогу совсем запаршивели.
– Ой, батюшки! Что же это я сама-то не догадалась? Только вот в зимней-то баньке ишо не прибрано, мы все в летней у реки паримся. Дойдёте ли туда?
– Дойдем. Мы от Мантурово, почитай, пешком протопали. Кое-где сердобольные старики на подводы сажали, если по дороге было.
Алёна набросила на себя телогрейку, сунула ноги в кирзовые сапоги и вышла. В сенях её чуть не сбил с ног Василко.
– Мама, что тятя вернулся? Я бегу из школы, а тётка Матрёна кричит: «Васька, беги быстрей, отец вернулся!»
– Пришёл, пришёл! Иди, дома они. Я баню пойду затоплю.
Василко рванул дверь, перескочил через порог и оторопел. За столом сидели два мужика. Мальчишка зыркнул по ним глазами, узнал отца.
– Тятя, вернулся? А мы тебя заждались.
Подошёл к столу, обнял отца и протянул руку второму мужчине.
– Меня Василий зовут.
– А меня – Григорий. Мы с твоим отцом вместе в госпитале лежали.
Василий присел на скамейку рядом с отцом. Девчонки тоже прилепились. Вылез из своего закутка и Лёшка. Примостился по другую сторону стола, поглядывая из-под лобъя на мужиков.
– Ну как, Василко, вы тут жили поживали? Как учитесь? Матери-то помогаете? – спросил Андрей у сына.
– Да нормально жили. Ведь мы не на войне – дома. А учимся хорошо, без троек. Вот закончу семь классов в техникум пойду на лесовода учиться, если вы, конечно, не будете против.
– Что ты, сынок, чего это мы будем против?.
За разговорами время летело быстро. В избу вошла Алёна.
– Собирайтесь мужики! Баня – готова.
К бане пошли всей толпой. Алёна помогла мужикам зайти в баню, наполнила шайки водой, запарила берёзовый веник.
– Ну вы мойтесь, парьтесь. Я тут на улице рядом побуду. Если, что зовите.
Алёна вышла из бани, присела на бревно под оконцем. Ребятня сидели у реки на плотике для стирки белья, о чём-то судачили.
Уже в сумерках вернулись всей ватагой домой, Алёна поставила самовар, начала накрывать на стол. Принесла из погреба миску грибов солёных, мочёной брусники зачерпнула из кадки, вытряхнула из чугунка картошку в мундирах, достала из сундука чекушку. Андрей пристально посмотрел на хлопочущую жену – «Постарела за эти два с небольшим года. А ведь ещё и тридцати пяти ей нет.»
– Андрей, Григорий! Вот выпейте после баньки по рюмочке – сказала Алёна.
– С удовольствием! – Андрей наполнил стограммовые гранёные стаканчики. – А ты, Алёна, что себе стаканчик не поставила? Не рада, что ли, возвращению мужа-калеки?
– Что ты, Андрей, как не рада? Очень даже рада.
– А то я думаю, не обняла мужа.
– Ой, да стушевалась я больно, а тут ещё человек чужой.
Алёна склонилась к Андрею, положила голову ему на плечо.
– Ладно, хоть не люблю я пить горькую, но за возвращение живым выпью.
Она встала, принесла махонькую рюмочку на высокой тонкой ножке, поставила её перед мужем.
– Налей, только не полную, а то опьянею.
Андрей налил водки в рюмочку.
– Ну что, выпьем за встречу. Живые вернулись, значит – жить будем.
Выпили, закусили грибочками.
– Да вы ешьте, картошечку ешьте, угощать то особо теперь нечем – Алёна пододвинула к мужчинам миску с картошкой.
– Ничего, всё наладится! Немчура уже драпать начала. Глядишь, скоро и войне конец.
Андрей налил себе и Григорию ещё по стаканчику.
– Алёна, Григорий у нас пока поживёт. Его деревня на Псковщине ещё под немцами. Так что ему ехать пока некуда.
–Ладно, пусть поживёт, места всем хватит, изба то большая.
За чаем разговоры пошли. Андрей спрашивал о родных, о своих товарищах: кто живой, кто убит, кто покалечен.
– Да почитай на половину мужиков, что призваны были похоронки пришли, Васька Алёхин без руки пришёл, Алёша Колесов без ноги, в селе тоже двое без рук да ног. Контуженых много. Брат твой Пётр без вести пропал. С месяц назад извещение получили. Обо всех-то сразу и не расскажешь.
Засиделись до поздна. Лучины пучка два сожгли. Алёна начала всех укладывать. Разбросила на полу матрасы, набитые сеном для Григория и Васи, мелких загнала на печку, для себя и Андрея разобрала кровать.
На следующий день в дом потянулись деревенские бабы поглядеть, да спросить, не встречали ли где ихних. Мужики прыгали по избе на костылях, выходили на крыльцо покурить. Дважды садились за стол – так и день прошёл. К утру захолодало, инеем траву подернуло. Народ засуетился, капусту с огородов убирать начали. Васятка взял топор и тоже пошёл капусту рубить. К вечеру натаскали мешками в сени целую гору вилков. «Хорошая уродилась капуста, на всю зиму хватит. Завтра надо разобрать капусту: зелёные листья снять, в короба положить» – подумала Алёна перед сном.