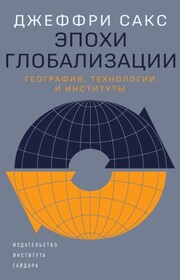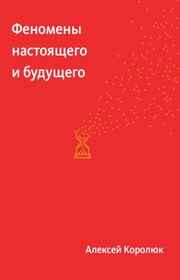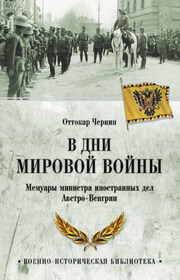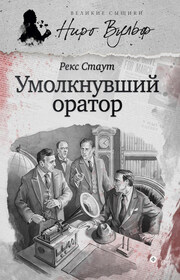Сочинения. Том 4. Экономика и политика России. Год за годом (1991–2009) Владимир Мау
Предисловие
Осенью 1990 г. по инициативе А.Г. Аганбегяна в структуре Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР был создан Институт экономической политики, который возглавил Е.Т. Гайдар. С 1993 г. институт стал независимой негосударственной организацией – Институтом экономических проблем переходного периода, затем – Институтом экономики переходного периода, а с 2010 г. – Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара.
Формируя институт, его директор предложил своим коллегам и единомышленникам сосредоточиться на анализе реальных трендов и закономерностей развития советской/ российской экономики. Многие, наверное, не помнят, но это было время, когда в стране все писали программы выхода из кризиса, программы экономического развития, но никто всерьез не обсуждал реальное экономическое состояние страны. Жанр экономического обзора был хорошо развит в России до конца 1920-х гг. и был возрожден к середине 1990-х, т. е. с возрождением рыночной экономики. В советской же системе этого жанра не было и быть не могло: игра рыночных сил была подавлена, а потому экономический анализ состоял в разработке народно-хозяйственных планов (пожеланий и прогнозов) и в сравнении результатов развития с плановыми показателями.
Е.Т. Гайдар тогда сказал: «На рынке программ у нас переполнение предложением. Но никто не анализирует реальное положение дел». Поэтому в основу работы института была положена подготовка обзоров социально-экономического развития страны.
Это была удачная находка, и с тех пор институт регулярно публикует обзоры «Развитие российской экономики: Тенденции и перспективы». На основе этих работ вышли три объемных исследования «Экономика переходного периода»[1], которые дают наиболее полную картину социально-экономического развития страны за последние 20 лет, включая логику экономической политики, макроэкономические и микроэкономические проблемы, институциональное развитие.
Автор этих строк неизменно был автором раздела, содержащего анализ взаимодействия экономических и политических процессов, тенденций и логики экономической политики. Большая часть этих материалов публиковалась также в виде статей в журнале «Вопросы экономики» за соответствующие годы. Собранные воедино, статьи дают представление о характере и направлениях нашего развития за 20 лет, прошедших после краха СССР и лежавшей в его основе коммунистической системы.
При подготовке настоящего издания автор не менял ничего в тексте. В некоторых случаях, когда в статьях упоминались события, по мнению автора непонятные современному читателю или забытые им, даются соответствующие пояснения в примечаниях с указанием [2010].
Автор выражает признательность Г.И. Гумеровой и О.В. Кочетковой за помощь при подготовке настоящего тома.
1991 г.
Экономика и политика в эпоху, предшествующую диктатуре (политические события истекших месяцев и экономика в первые месяцы 1991 г.)
Период января – апреля 1991 г. имеет выраженные качественные границы. Начало года ознаменовалось усилением консервативно-стабилизационной идеологии в высших эшелонах союзных органов власти. Конец апреля – начало мая позволяют говорить об отходе от январского курса. Наметился отказ от жестко конфронтационного стиля взаимоотношений между основными политическими соперницами, позиции ключевых фигур советского политического процесса становятся более прагматическими и реалистическими.
В 1991 г. страна вступила в тревожной атмосфере. Доминирующим настроением было ожидание грозовых событий. Политическую тональность определили отсутствие согласованного бюджета, обострение противоречий между центром и республиками, кадровые изменения в высшем эшелоне власти, кульминационным моментом которых стали отставка Э.А. Шеварднадзе с поста министра иностранных дел СССР и его предупреждение о надвигающейся диктатуре. На передний план выходили деятели, известные своей борьбой с альтернативными хозяйственными структурами, жесткой позицией в отношении демократических процессов в республиках.
Политическая жизнь года началась с формирования нового союзного правительства – Кабинета министров[2], непосредственно подчиненного президенту. Существенных изменений персональный состав правительства не претерпел. Многие ключевые позиции вновь заняли деятели, тесно связанные с военно-промышленным комплексом.
Курс, взятый В.С. Павловым, подтверждал сильное влияние ВПК, склонного к силовым методам решения хозяйственных и политических проблем, более других секторов заинтересованного в укреплении госсобственности в противовес альтернативной экономике, слабозависящей в своей производственной деятельности от внешнеэкономических связей. В программном интервью газете «Труд» (12 февраля 1991 г.) в качестве первоочередных задач правительства выдвигались усиление центральной власти, развитие тяжелой промышленности, ее форсированная модернизация самим государством, проведение малой приватизации на основе единой общегосударственной собственности, сохранение в основном коллективного землепользования в сельском хозяйстве. Одновременно премьер-министр обвинил ряд частных банков Швейцарии, Австрии и Канады в стремлении дестабилизировать политическую ситуацию в СССР, еще более снизить курс рубля и затем скупить по низким ценам значительную часть отечественных средств производства[3].
В официальных заявлениях вновь появились рассуждения о необходимости защиты страны от происков международного капитала. Президент М.С. Горбачев своим указом санкционировал прямое вмешательство органов МВД и КГБ в хозяйственную деятельность предприятий (включая совместные) на территории СССР. Как наглядное свидетельство торжества нового курса были восприняты события в Прибалтике[4]. Все это резко ограничило интерес западных партнеров не только к инвестиционной, но и к торговой деятельности в Советском Союзе.
Одним из первых по времени признаков склонности Кабинета к силовым методам решения проблем стал обмен денежных купюр пятидесяти- и сторублевого достоинства, проведенный 23–25 января[5]. Данная акция позволила оценить «реактивную способность» населения и, кроме того, должна была отвлечь внимание от событий в Прибалтике.
Суть нового курса в экономической политике состояла в поддержке и укреплении традиционных государственных хозяйственных структур, сосредоточении в руках государства финансовых и материальных ресурсов, чтобы, используя характерные для советской системы инструменты, обеспечить преодоление кризиса и, возможно, технологический прорыв в некоторых ведущих отраслях народного хозяйства. Альтернативные экономические структуры (рыночные институты) здесь остаются на второстепенных ролях, и их активное включение в хозяйственный процесс в лучшем случае переносится в будущее.
Однако этот подход не остался доминирующим, а тем более единственным. Союзным органам была свойственна дихотомия: Верховный Совет СССР работал над рядом законодательных актов, призванных создать правовую базу для активного формирования рыночных структур (рыночных институтов), – над законами о приватизации, о предпринимательстве, основами гражданского законодательства и т. д. В этом же направлении еще более решительно действовали многие союзные республики. Здесь была принята принципиально иная концепция – первостепенная роль отводится формированию новых рыночных структур, новых социальных сил, способных активно включаться в решение задач вывода экономики из кризиса. Именно этот подход доминировал в апрельской программе Совета Министров РСФСР, призванной, по замыслу российского руководства, стать политической альтернативой курсу союзного правительства[6].
В этих условиях нарастала и поляризация политических сил в обществе. Реформаторски настроенные деятели интеллигенции и рабочего движения сделали решительный шаг в сторону Б.Н. Ельцина[7], который в соответствии с логикой политической борьбы оказался ключевой фигурой радикальной оппозиции центру вообще и М.С. Горбачеву в частности. И хотя популярность обоих руководителей падала, рейтинг российского руководителя явно опережал соответствующий показатель Президента СССР. Формирование Высшего консультативно-координационного совета, в который вошли многие видные интеллектуалы, еще недавно активно поддерживавшие М.С. Горбачева, явная однонаправленность позиции Б.Н. Ельцина с требованиями шахтеров Кузбасса перед несостоявшейся политической забастовкой 18 января позволяли перейти к решительным действиям. Резкое выступление Председателя Верховного Совета РСФСР по телевидению 19 февраля и ответ М.С. Горбачева в Минске окончательно оформили размежевание. Начало шахтерских забастовок было естественным образом связано с этими политическими событиями.
Шахтерские забастовки – одно из наиболее ярких и существенных событий истекшего периода. Правительство СССР первоначально пошло на переговоры по экономическим вопросам, попытавшись расколоть забастовочное движение, однако убедительных результатов ему достичь не удалось. Необходимость политических решений для снятия напряженности становилась очевидной. Обещание переизбрания союзных органов в обозримом будущем и переход шахт в юрисдикцию союзных республик способствовали выходу из сложившейся ситуации. Последнее, впрочем, чревато новыми конфликтами – теперь уже с республиканскими правительствами, если они не предпримут энергичных шагов по изменению социально-экономического статуса шахт. Особенно сложная ситуация на Украине: из-за высокой себестоимости добываемого в Донбассе угля социальные перспективы бассейна не внушают оптимизма.