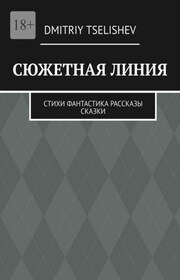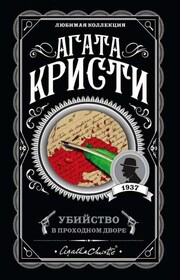Счастливые камни моего деда. Литературное наследие П. И. Ратушного Порфирий Ратушный, Алексей Ратушный
© Алексей Ратушный, 2020
© Порфирий Илларионович Ратушный, 2020
ISBN 978-5-0051-4826-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Счастливые Камни моего деда
Алексей Ратушный
«СЧАСТЛИВЫЕ КАМНИ» МОЕГО ДЕДА
Мне всегда хотелось издать эту книгу вновь. В память о бабушке, маме, Роне, Мише. В память о 1959-ом годе, годе рождения Алёши Кремлёва и Ильи Кормильцева.
В память о дедушкиной версии малахитовой шкатулки.
Они с Павлом Петровичем Бажовым дружили.
Состояли в одной писательской организации.
Тётя Рона и мама рассказывали мне то, что помнили сами.
Понятно, что память Роны была богаче на воспоминания.
Дедушку арестовали и расстреляли когда маме едва-едва исполнилось десять лет.
Рона была на шесть лет старше.
Рона родилась ещё ДО возникновения Советского Союза – 15 августа 1922 года, в Киеве.
Мама умрёт ПОСЛЕ распада Советского Союза 21 октября 2004 года в Екатеринбурге.
Из всех членов семьи деда на момент ареста только моя мама проживёт дольше, чем существовал СССР!
СССР прожил 74 года
Мама прожила 76 лет.
Бабушка прожила 69 лет.
Дед прожил 51 год.
Миша прожил 50 лет
Рона прожила 40 лет
Жорик (сын Миши) прожил 20 лет.
Сегодня я представляю Вам очерки и рассказы моего деда из сборника «Счастливые камни».
Оглавление публикуемого здесь
Обратите внимание на последний – совсем коротенький рассказ – «Старуха»!
А еще на совсем короткий рассказ «Душа»!
В издании 1959 года вы их не найдёте!
Почему?
Может быть издатель стремился повторить издание строго очерков?
Не уверен.
Сейчас порой смотрю всякие конкурсные выступления певцов и кастинги.
Иногда встречаются такие исполнители, что с первых секунд понятно: СУПЕР!
Вот эти два рассказа по страничке каждый – из этой самой серии!
Порфирий Илларионович Ратушный
СЧАСТЛИВЫЕ КАМНИ
1937 – 1 издание
1959 – 2 издание
ДУША
Как только он слышал похоронный звон, бросал все и спешил к церкви. Там он с благолепием подпевал сиплым тенорком:
«Святый боже, святый крепкий…»
На припухших от пьянства его глазах дрожали слезы.
В летний ли зной или в зимние бураны за гробом он шел с пепокрыгой головой, и лысина его, окаймленная венчиком седых волос, лоснилась от грязи.
Усерднее всех, до поту, работал он на могиле заступом. Но зато настойчивее других попрошаек просил он на поминках водки.
Он говорил родичам покойника:
– За упокой души новопреставленного раба божия, пожалейте ДУШУ живую!..
И вот за это его прозвали «Душа». [105]
Кроме похорон он в харчевне Степаныча зарабатывал водку пением, танцами. Душа был уже стар. Плохо видели хмельные глаза. Дрожали пьяные руки. Облысела голова. Морщины избороздили лицо и шею. Но сохранились, как в молодости, прекрасные крепкие зубы.
Посетители кабачка говорили:
– Закусишь стаканом, – дадим водки…
И Душа пил водку, закусывая стаканом. Хрустело стекло. Скрежетали зубы, дробя стакан, а лицо Души было равнодушно и бесстрастно.
Так как покойники в городе случались не каждый день, а харчевня торговала и в будни и в праздники, Душа был завсегдатаем харчевни. Первым он заходил в нее и последним уходил.
В молодости он был хорошим камнерезом. Екатеринбургские купцы охотно покупали вещицы, сделанные им, особенно из хрусталя. Потом, после смерти жены, он спился. Квартиры своей он давно не имел и жил из милости у одного гранильщика в бане. Давно прожил он свой станочек.
Гранильщики при встречах спрашивали его:
– Что, Душа, пропадаешь?..
Душа бессмысленно улыбался и отвечал:
– Пропадаю… А ты?..
Однажды в харчевню зашел хмурый, должно быть приезжий, купец. Он неодобрительно повел носом и потребовал накрыть столик скатертью. Приказал принести лучших в харчевне закусок. [106] А водку потребовал не в стакане, а в графине. Такого посетителя харчевня давно не видела.
С нетерпением следил Душа за необычными приготовлениями Степаныча. Наконец, Степаныч ушел за прилавок.
– С благополучным прибытием! – вежливо сказал Душа, приблизившись к столу.
Купец не удостоил камнереза взглядом…
Душа погладил венчик седых полос и повторил:
– С благополучным прибытием!..
Толстым пальцем поманил купец Степаныча. Хозяин подбежал, услужливо вытянув жирную шею. Купец повел бровью в сторону Души и сказал:
– Гони!
Степаныч цыкнул на Душу. Душа отступил на шаг. Хозяин склонился к гостю и что-то тихо ему говорил. Купец исподлобья посмотрел на Душу и поманил его.
– Выпьешь? – спросил купец.
– За ваше степенство! – ответил Душа.
– Стаканчиком закусишь?
– За ваше степенство…
– Ну, пей!..
Душа поднял стаканчик, взглянул по обыкновению через него на свет и замер. Водка играла в хрустальных гранях стаканчика тяжелой радугой. В одном месте она преломлялась, выдавая изъян кристалла.
Купец хмуро смотрел на камнереза и сказал: [107]
– Ну!..
На лице Души, всегда в таких случаях холодном, вдруг появилось какое-то беспокойство. Словно силился Душа что-то вспомнить и не мог. Он медленно опускал руку со стаканчиком и бессмысленно глядел на купца. Стаканчик стукнул о стол. Водка расплескалась.
Эт-т-то что же это такое? – сказал купец.– Пей, ворюга!
Душа бессмысленно и глупо таращил глаза.
– Пей! – стукнул по столу купец побагровевшим кулаком.– Пусть пьет! – сказал он Степанычу.
Степаныч грубо сунул Душе стаканчик и сказал:
– Айда!.. Разом!..
Подобие улыбки набежало на лицо Души. Душа смотрел на стаканчик. Сквозь радужные грани он видел голубые глаза покойной жены.
Душа выплеснул водку. Лицо его засветилось взволнованной мыслью. Венчик вокруг лысины ощетинился. Душа закричал:
– Мой!.. Это же я…
И, прижимая к груди стаканчик, сказал:
– Сука и та не жрёт своих щенят…
И хрусталь, когда-то давно-давно получивший жизнь из рук мастера, играл и искрился теперь на засаленном пиджаке Души, как драгоценный брильянтовый кулон. [108]
СЧАСТЛИВЫЕ КАМНИ
В то время, в которое еще не было революции, при царском положении, много лет назад, ходило среди людей поверие, что камни-самоцветы влияют на судьбу человека. То-есть люди разговаривали о том, что самоцветы счастье приносят. Например: обладатель изумруда избавляется от всяких болезней и недугов. У кого есть александрит, – тому вечная удача и успех в задуманном деле.
В магазинах Екатеринбурга, где продавались драгоценные камни, покупателям предлагали небольшую книжечку печатную, в которой подробно излагались всевовможные волшебные свойства камней-самоцветов.
У меня тоже была печатная такая памятка, да за ненадобностью я ее потерял. В ней разное было напечатано. Однако я полагаю, что все это чепуха. [71]
Камни, – если они сработаны как полагается, – действительно, теперь для глаз радость, и мило глядеть. Но тогда…
Торговцы пользовались этим поверием среди людей.
Малоценный какой-нибудь камень торговец продавал подороже, потому что камень «волшебный» счастье приносит.
А какое счастье, – вы увидите из такого случая.
Вот тут жил в Свердловске, при царском положении, гранильщик один. Было их тут много, но расскажу про одного. Звали его Ефимом Дмитриевичем. Яковлев по фамилии. За жизнь свою он переимел и руках все камни: и гранаты, и цирконы, и сапфиры, и изумруды, и фенакиты, и топазы, и аметисты, и рубины, и хризолиты, и тяжеловесы, и турмалины… Одним словом, не было иа Урале такого камня, который мимо рук Яковлева прошел. Я про род камней говорю. Ну, и скажите, пожалуйста: не видел он счастья! И не дожил до него.
Лет 25 времени скончался.
Давнишнее было время, в ученики меня по контракту отдали хозяину Липину. В те годы гранильная фабрика, – так рассказывали старики, – распродала все самоцветы после уничтожения крепостного права и работала больше по яшмоделию. Для увеселения царей работала: вазы делала, саркофаги и другие тяжёлые предметы. Оплата рабочих была слабенькая- 17 рублей в месяц платили. Люди, которые потолковее на счёт камня, те дела по рукам на фабрике не имели. Гранильщики, [72] ювелиры, которые были, граверы – эти на предпринимателей-хозяев в тот момент работали.
Вот отдали меня в ученики к Липину. Определил Липин меня к гранильщику. Тут я и увидел товарища Яковлева. Высокий, худой. Борода черноватая. Развитие гражданское имел он слабое. Высказывался всегда медленно, гордо, а говорил неизвестно что и к каждому слову присказку добавлял: «Совершенно что…»
Вот спросят его:
– Ефим Митрич, – война-то чем кончилась?
Тогда китайская война была.
А товарищ Яковлев рукой до воздуху проведет, – и отвечает:
– Война… Совершенно что… Постреляли, постреляли… совершенно что, переходи на нашу сторону.
Вот такой был в гражданском развитии товарищ Яковлев. Но по камню имел он большое умение. Все свойства и капризы камней знал. Вот хозяин Липин дает ему аметист. Камень весь белый, хуже стекляшки. Только капелька одна лиловая в боку, – по-нашему: куст краски. Куда камень такой годится? На взгляд хуже всего. Покрутит в руках тот камень Ефим Митрич, и так и этак посмотрит его. Молча все это, и начнет он огранку вести. Спервоначала придаст [73] ему приблизительную форму, дальше больше и в конце процесса – глядишь – отдает хозяину, вместо стекляшки белой, – камень дорогой, самоцветный. Камень горите, переливается. Дело-то в том, что товарищ Яковлев знал, как гранильщик, что куст краски надо поместить в самый испод. Испод – это слово наше, уральское. Помню, как меня Яковлев учил этому слову. Положит камень, сделает неопределенный жест и говорит: