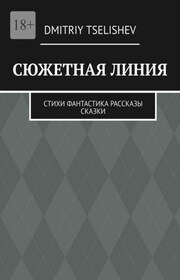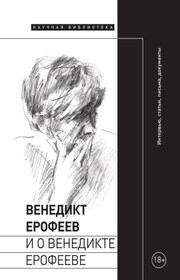Самозванец Ирина Кэсседи
© Ирина Кэсседи, 2018
ISBN 978-5-4490-8405-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Моей семье с любовью.
Глава 1
«Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании», – с натужной доброжелательностью поблагодарил пассажиров механический голос. Подталкиваемый в спину острым кулачком пожилой дамы, возле которой ему пришлось отсидеть восемь часов полета из Нью-Йорка в Москву, он покинул спартанский салон эконом-класса. «Cheapskates1», – еще раз помянул он работодателей недобрым словом.
Знаменитый хайтековский дизайн международного аэропорта Шереметьево, приглушенное мягкое освещение и, самое главное, избавление от соседки, изводившей его всю дорогу рассказами о детях и внуках, почти мгновенно примирили его с жизнью и улучшили настроение. Он пристроился в хвост очереди для прохождения пограничного контроля и принялся смотреть по сторонам, разглядывая свою первую московскую достопримечательность изнутри и вбирая в себя первые впечатления.
Все же интересно, думал он, как трансформируются наши представления о ранее не виденном, после того как образ, существующий до того только в нашем воображении, сталкивается с суровой, или даже наоборот, более светлой, чем представлялось, реальностью. Эта настоящая, а не выдуманная реальность не сразу, не в клочья, а очень постепенно размывает этот самый образ, как избыток воды размывает первоначальные очертания какой-нибудь акварели. Его всегда удивляло, как часто, к примеру, голос человека, с которым никогда не встречался лично, а только говорил по телефону, может категорически не совпадать с его внешностью и поражать при встрече своей неуместностью и как бы даже непринадлежностью хозяину. Иногда это даже огорчало его, как огорчает неожиданно вскрывшийся незаслуженный и бессмысленный обман. То же самое бывало с его представлениями о городах и странах, которые он наконец видел своими глазами. Чаще всего, надо признать, они оказывались красивее или, по крайней мере, интереснее, чем избалованное впечатлениями воображение рисовало ему. Изредка разочаровывали, и еще реже реальный их облик совпадал с его первоначальными о них представлениями.
Едва приземлившись в аэропорту, он понял, что это как раз один из тех редких случаев. Полуторачасовая очередь на границе, красивые как на подбор, но неразговорчивые девушки-пограничницы, тщательнейшим образом проверившие его документы и взявшие отпечатки пальцев, затем таможенники, перетряхнувшие весь его багаж, и напоследок очень серьезные молодые люди в камуфляже, украшенном эмблемами с изображением Георгия Победоносца на рукавах и спине, по всей видимости, исполняющие функции полиции, – весь этот неласковый прием попытался было вдребезги разнести сиропный образ родины, пастельными тонами набросанный для таких, как он, глянцевым журналом «Russia», аккуратным подписчиком которого он являлся вот уж сколько лет. Аккурат с того времени как вздумалось ему начать ощущать себя «этническим русским». Однако Денис устоял.
«Эра терроризма, ничего не поделаешь, – объяснил он себе, – А где сейчас встречают с распростертыми объятиями?» Благодаря аутотренингу он легко стряхнул этот пустяковый негатив со своих первых впечатлений, не давая налипнуть на них чувствам, как досадной, но неизбежной cентябрьской паутине. Ведь кроме развлекательного журнала не чурался он также и более серьезных информационных телевизионных каналов, таких как BBC, MSNBC и CNN. Рисовать романтически-героический образ чужой родины-матери по понятным причинам не входило в их задачи. Будучи достаточно объективным и трезвым человеком, он понимал, что так это и бывает в основном в жизни: истина где-то посредине. Зато такой шикарный аэропорт еще поискать! А метрополитен, говорят, так и вообще восьмое чудо света.
Ему было непросто получить назначение в новую англоязычную газету Moscow Age, только что профинансированную издательским домом, где он верой и правдой прослужил без малого 5 лет. Он любил думать по-русски и именно такими слегка устаревшими выражениями, которыми изъяснялась его покойная ныне бабушка. Думать таким образом было дольше, чем по-английски, но заметно приятнее, потому что: во-первых, он ощущал себя причастным к давно ушедшей эпохе, послевоенному двадцатому веку, который дал корни ему самому. Во-вторых, это давало ему право гордиться собой как человеком, выучившим чужой язык уже не ребенком, а взрослым, ну допустим, не совсем взрослым, но сознательным подростком, который поставил перед собой трудную цель – и достиг ее. Безусловно, ему очень помогла в этом бабушка, весьма удивленная его неожиданно проснувшимся интересом к языку и истории предков. По крайней мере, бабушкиных предков. Не баловавший бабушку частыми посещениями внучок (как, впрочем, и остальные внуки) вдруг начал наезжать к ней в ее маленький домишко чуть не каждый день за уроками русского языка и рассказами о ее довоенной жизни в России, в один летний день буквально расколотой вдребезги вторжением немцев и последующим интернированием; о тяжелых работах в Германии, освобождении союзниками, встрече с дедом-сержантом из Южной Дакоты и отплытии в далекую сельскую Америку не столько по большой любви, сколько от страха перед еще одним трудовым лагерем, но уже на далекой, любимой, но такой неласковой родине.
Бабушкин прагматизм одержал над русской сентиментальностью и ностальгией не то чтобы очень скорую, но вполне решительную победу. Бабушка сознательно отставила в сторону все охи и ахи по поводу тяжестей эмигрантской судьбы, чужбины-мачехи и тоски по тихим закатам на Оке и занялась обустройством своей новой жизни. Война только закончилась, у всех хватало своих бед и забот, и при всем желании, которого, впрочем, ни у кого не было, кукурузный край не мог предоставить ей адекватной аудитории. Родом из Калуги, в которой до войны учительствовали ее родители и где сама она, пойдя по их стопам, окончила немудрящее местное педучилище, бабушка, хотя и носила царственное имя Августа, была тем не менее не избалована обилием очагов культуры и развлечений, а потому и не гневила судьбу жалобами на простую полусельскую жизнь провинциального городишки в пятидесяти милях от номинальной столицы штата – не менее провинциального города Пьер, куда забросила ее судьба и корабль «Джордж Вашингтон», доставивший ее в Америку вместе с молодым мужем и сотней других веселых демобилизованных джи айз2.
«Жива – и слава Богу,» – думала она, аккуратно перекрестившись, каждый раз, когда наваливались тяжелые думы. Куда же без них, после такой-то страшной войны. Она и приучилась молиться только во время войны, до войны была она, как и все ее сверстники, убежденной и бескомпромиссной атеисткой. Война это быстро поправила. Из всей семьи уцелела она одна: мать погибла под бомбежкой, на отца и старшего брата еще в самые первые месяцы пришли похоронки, вот и выходило, что и захоти она вернуться, не к кому было бы: никто ее там больше не ждал. А уж как дома обошлись с теми, кто вернулся из плена да с принудительных работ в Германии, ей регулярно рассказывали в новостях по радио: уже ясно чувствовалось ледяное дыхание новой, Холодной войны. Поди проверь, правда ли, нет ли, а береженого Бог бережет. Закрыть рот на замок и помалкивать было лучшим решением в ее случае.
Осмотревшись да подучив язык, устроилась она на работу в местный детский сад воспитательницей. Туда же со временем стала брать и своих троих погодков. Муж оказался добродушный, непьющий и работящий. Одним словом, жизнь сложилась в общем-то неплохо, грех жаловаться.
В лице подросшего Дениса, младшего внука, наконец-то нашла она на старости лет благодарного слушателя, с которым охотно делилась воспоминаниями о далекой российской молодости и о пережитом, шутка ли, более полувека тому назад.
По окончании школы, правда, слушатель незамедлительно отбыл в более цивилизованные края, а именно в город Нью-Йорк, в Колумбийский университет, изучать искусство журналистики. Изначально планы у него были другие, мальчишески-героические: видел он себя ни больше ни меньше суперагентом ФБР, вот и надумал увеличить свои шансы быть принятым в ряды легендарной организации знанием языка и культуры великого коммунистического противника, но потом блажь прошла, а интерес к стране и истории остался. С той уже достаточно далекой поры приобрел Денис привычку объяснять свою частую непредсказуемость и удивительную беспечность текшей в его жилах недисциплинированной русской кровью, раздражая этим подходом остальных членов своей семьи, обладающих набором аналогичных генов, не отягощенных, однако, при этом Денисовыми пороками.
В зале прилета его мгновенно окружили напористые таксисты, о которых он был заранее предупрежден, что на самом деле это не просто таксисты, а члены экзотической полумафиозной таксистской группировки, вполне легализованной и с какой-то неясной целью охраняемой муниципальной полицией, и поэтому ставшей чем-то вроде еще одной туристической достопримечательности столицы. Достопримечательность была, впрочем, не вполне безопасной, но ведь и сицилийская мафия, к примеру, небезопасна. А что, в конце концов, за Сицилия без мафии? Аналогия показалась Денису справедливой. Он уверенно отодвинул таксистов плечом и, отбив у них свои чемоданы, самостоятельно потащил их к выходу из аэропорта. Надо признаться, что уверенность его объяснялась исключительно тем, что в аэропорту его должны были встречать. Наслышанный о том, как ни о чем не подозревающие пассажиры порой так и не доезжали до места назначения, либо навеки исчезнув в подмосковных лесах, либо в лучшем случае очнувшись там же, но уже без бумажника и чемодана, Денис заранее принял разумные меры предосторожности.