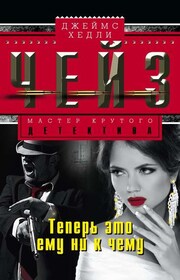Политические сочинения. Том II. Социальная статика Герберт Спенсер
Политические сочинения в 5 т. Т. 2.
В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.
© ООО «ИД «Социум», 2014
Марк Салливан
Предисловие
В конце XX в. может показаться странным, что интерес к политической философии и дискуссиям века XIX-го до сих пор не угасает. Тем не менее это так. Все интересующиеся социальными науками продолжают изучать идеи Герберта Спенсера как в стенах академических учреждений, так и за их пределами.
Нельзя назвать однозначно положительным явлением то, что после краха марксистского государственного социализма в странах Европы и в России поиск социальных, политических и экономических идеалов стал восприниматься как чистый утопизм. Нам осталось обсуждать альтернативы – но не наилучшие из возможных, а «устраивающие большинство». Столетие тому назад ярлык «анархиста» автоматически исключал человека из поля публичных дискуссий, и жертвами этой стигматизации вольно или невольно стали многие последователи Спенсера. Затем для подавления свободы дискуссий и усиления конформности сознания использовали эпитет «коммунист». Сегодня эстафета изгойства перешла к «либералам». Надеюсь, мы все же не вернемся ко временам истерии по поводу «красной угрозы», которую сегодня, видимо, следует назвать «либеральной угрозой».
«Социальная статика» является безусловно либеральным сочинением, причем сочинением в духе классического либерализма. Она посвящена рассмотрению качества свободы и равенства в свободе. В 1850 г., когда «Социальная статика» была издана впервые, Спенсер был восходящей звездой классического либерализма, продолжателем традиций Джона Локка, Адама Смита, Томаса Пейна и Мэри Уоллстоункрафт, и достиг пика своего творчества в одно время с деятельностью Джона Стюарта Милля и Генри Джорджа. В течение XX в. эта традиция постепенно приходила в упадок, поддерживаясь лишь трудами узкого круга «джорджистов», и стала вновь набирать силу благодаря творчеству современных либертарианцев.
Поскольку социальный идеализм ныне признан «утопичным», труды либеральных философов в традиции естественного права часто называют старомодными и приличествующими лишь XIX в. Мы, впрочем, не станем подпадать под влияние этой моды и вспомним слова, произнесенные Генри Джорджем в его речи перед студентами Калифорнийского университета в 1877 г.: «Маколей был прав – если бы в отрицании закона всемирного тяготения можно было отыскать денежный интерес, сегодня даже самые очевидные аксиомы физики нашли бы немало оппонентов».
Книга, которую вы прочтете, не о тяготении; она о других естественных законах, которые занимают умы человечества не одну тысячу лет, – поскольку принятие их существования в любом обществе низвергнет всемогущих, вернет достоинство униженным и «распространит дело свободы по всей земле».
Марк Салливан,
июнь 1995 г.
Предисловие автора
к американскому изданию
Автор желает, чтобы новое издание «Социальной статики», которое выпускается теперь в свет для американской публики, не принималось за вполне точное выражение его настоящих взглядов на вещи. Учение, изложенное в этом сочинении четырнадцать лет тому назад, при первоначальном его обнародовании значительно развилось в сознании автора в течение этого времени и в некоторых отношениях даже видоизменилось. Автор и в настоящее время считает справедливыми руководящие начала, развитые на страницах этой книги, но он не во всех случаях разделяет применение этих начал в частностях.
Основные начала нравственности, изложенные в первой части и в начальных главах второй, он считает только предварительным очерком того, что, по его мнению, составляет сущность и истинный смысл нравственных принципов. Во всех тех отношениях, в которых выводы развиты, они по существу верны, но разработаны слишком недостаточно и составляют только часть тех оснований, на которых должна быть построена научная система этики.
Выводы, сделанные во второй части, почти во всех отношениях вполне согласны с современными взглядами автора; но если бы ему пришлось в настоящее время излагать свои мысли по этим предметам, то он в некоторых случаях выразил бы их совершенно иначе. В особенности главы «О правах женщин» и «О правах детей» подверглись бы таким изменениям, которые, сохраняя положения и выводы в прежней их силе, придали бы другой вид их логическому построению.
То же можно сказать и о выводах, сделанных в третьей части. Автор разделяет и до настоящего времени выраженные в ней общие взгляды на политические права, на государственные отправления и на пределы, в которых должна вращаться государственная деятельность. Но если бы ему пришлось излагать все это вновь, он обратил бы несравненно больше внимания на то, что все политические учреждения имеют только временное значение и что вследствие этого некоторые из подобных установлений если и имеют относительные достоинства, то не могут иметь никаких притязаний на абсолютное совершенство.
Если спросят автора, почему он не изменил своего сочинения так, чтобы оно вполне выражало его современные мнения, ему останется ответить, что он не мог бы исполнить этого удовлетворительно, не приложив к нему такого количества труда, которое заставило бы его прекратить на время свои работы над «Системой философии». Если ему удастся достигнуть заключительных томов этой системы, он разовьет в них выводы, относительно которых «Социальная статика» будет только общим очерком.
Лондон
16 ноября 1864 года
Предисловие
Тон и способ изложения, принятый местами на последующих страницах, может быть, вызовет замечания критики, потому что он в некоторых отношениях не похож на предшествовавшие ему работы по тому же предмету. Исход дела покажет, благоразумно ли поступил автор, внося нововведения в сферу установленного прежними приемами. Он не отступал от старого без достаточных причин; и если он это делал, то делал именно в том убеждении, что книга предназначена иметь влияние на деятельность людей и что, следовательно, самый лучший способ для ее сочинений – тот, которым всего более достигается такая цель.
Проявления чувства, допущенные местами в этом сочинении, могут неприятно поразить и показаться неуместными при чисто научном изложении; не следует, однако же, упускать из виду, что на той ступени развития, на которой мы находимся, люди редко руководствуются исключительно логическими соображениями. Соображения эти для того, чтобы произвести впечатление, должны быть подкреплены явными или скрытыми обращениями к чувству. Если обращения к чувству дополняют, но не заменяют логических выводов, то против них нельзя сделать никакого основательного возражения. Читатель увидит, что различные выводы, предложенные на его обсуждение в этом сочинении, имеют в своем основании исключительно общее и безличное мышление, и только с этой точки зрения они могут быть рассматриваемы. Если для усиления их впечатления на большинство делаются здесь посредственные обращения к симпатиям, то этим не только не ослабляется, но скорее увеличивается сила аргументов.
Может быть, легкое изложение, допущенное в некоторых случаях, будет признано несоответствующим важности предмета. В оправдание такого приема можно сказать, что сухая сжатость и точность, принятая, по обычаю, в философских сочинениях, порождает в них монотонность, неодолимую для большинства читателей. Автор согласен, что строгое изложение имеет свои преимущества, но он предпочел пожертвовать отчасти этими достоинствами в надежде сделать сочинение интересным для большего числа читателей.
Лондон
декабрь 1850 года
Введение
Утилитарная философия
§ 1. «Дайте нам руководителя, – кричат люди философу, – мы хотим вырваться из этой жалкой обстановки, среди которой мы погрязаем. В нашем воображении постоянно зарождаются образы лучшего, и мы скорбим о них, но все наши усилия обратить их в действительность остаются бесплодными. Нас утомляют эти постоянные ошибки; укажите нам пути, которыми мы можем достигнуть исполнения наших желаний».
«Что полезно, то справедливо», – вот один из последних, в числе многих, ответов на этот призыв.
«Совершенно верно, – возражают вопросители, – для божества справедливость и польза, без сомнения, однозначащие выражения; но для нас остается неразрешенным вопрос: которое из них предшествует и которое должно служить выводом. Если согласиться с вашим предположением, что справедливость составляет неизвестную величину, а польза – известную и данную, то предложение ваше может послужить делу. Но в том-то и беда, что горький опыт убедил нас, что обе эти величины одинаково неизвестны и неопределенны. Наконец, в нас зарождается подозрение, что определение справедливости даже легче, чем определение пользы, и что удобнее было бы ваше предложение преобразить в противоположное и выразить так: что справедливо, то полезно».
«Держитесь правила наибольшего счастья для наибольшего числа людей», – так разрешает сомнение другой авторитет.
Ему отвечают, что это точно так же, как и предыдущее, нельзя даже вовсе и называть руководящим правилом: это скорее выражение задачи, подлежащей разрешению. Ваше «наибольшее счастье» – это именно и есть то, что мы так долго и так бесплодно разыскиваем; мы только не давали этого названия предмету наших желаний. Вы не говорите нам ничего нового, вы только придумываете слова, чтобы выразить нашу потребность. То, что вы называете ответом, это наш вопрос, выраженный в обратной форме. Если такова ваша философия, то она, без сомнения, одно суетное и ничтожное разглагольствование; она не более как эхо, повторяющее вопросы.