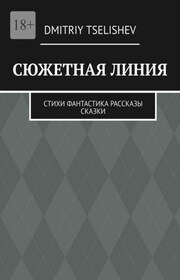По каналам времени плыву Наталья Мазюкова
Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.
А. П. Чехов «Степь»
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателей запрещается
© Мазюкова Н. В., текст, 2021
© Издательство «Союз писателей», оформление, 2021
© ИП Соседко М. В., издание, 2021
Собрание памятных вещей в алфавитном порядке
Вместо предисловия
По каналам времени плыву,Вижу я былое наяву.Память приглашает на свиданье,Захватив с собой вещей собранье.Встретиться с другими мне дано,То, что было, в явь предрешено.Лодка оттолкнулась от причала,Там, где я была, и есть начало.
Претворение замысла, то есть многотрудный процесс написания книги, – задача архисложная. Жизнь уже связала своё полотно с определённым узором, и когда начинаешь вглядываться в него и пересказывать увиденное, то получается, что как будто распускаешь нитки, нарушаешь геометрию и вместе с тем создаёшь совершенно новое – канву повествования. Да и сама ты – не та, далёкая и незнакомая, но и не эта, всамделишная и сейчасная. «Нельзя в одну реку войти дважды», – утверждали философы, поэтому и я не буду рассуждать на эту тему, а буду просто вспоминать.
Вещи с историей. Мне остаётся сожалеть, что многое из того, что мне дорого, будет выброшено на свалку. Я не сторонник фетишизма и всё-таки упрямо провозглашаю: если бы вещи умели говорить, они поведали бы многое об эпохе, владельцах, чувствах, эмоциях… – жизни.
Эта книга – попытка рассказать о недавнем времени. Через призму вещей показать стремление украсить жизненное пространство, формирование традиций, общность людей, их интересы – то, что составляет бытовой и культурный слой.
Маленькая ремарка. Путешествуя по каналам времени, мы будем делать остановки: где-то задержимся дольше, сойдя с воображаемой гондолы на берег, иногда только лишь мимоходом посмотрим на предмет, изредка появится ощущение предвосхищения неожиданной встречи, будем печалиться и радоваться, мысленно подтрунивать над рассказчиком, чувствовать и сопереживать, словом, нас ждут интересные волнующие моменты.
Кто-то сделает открытия, иной раздосадуется, чувствительный всплакнёт, нетерпеливый бросит чтение сразу. Зная это, любезный мой читатель, тщу себя надеждой, что кто-то безоговорочно отправится в это путешествие вместе со мной – станет моим добрым попутчиком.
Открытое нутро для сотни глаз,Через ячейки видно торты, фрукты.Семён Семёныч в «Бриллиантовой руке»Клал пистолет поверх кефира с хлебом.Супруга Шурика несла не в рюкзакеТе макароны с портмоне к обеду.Авоська – символ золотых времён —Загадочной эпохи дефицита.И исчезает время, как фантом.В портал советский дверь навек закрыта.Смешное слово, непонятное сейчас, —Авоська – просто сумка для продуктов.
Культовая вещь, ставшая легендой, – авоська[1]. Начну именно с неё. До настоящего времени сохранилось две авоськи: более раннего происхождения, сплетённая из суровых, имитирующих шёлк ниток, и тёмно-синего цвета – из синтетических, но позднего происхождения. Одна сетка, потерявшая первоначальный цвет, своего рода экспонат, образчик быта прошлой эпохи. Другая авоська до недавнего времени активно использовалась. В ней мы носили тазы, когда ходили в общественную баню. Надо сказать, авоська по каким-то причинам не была популярной у нас в семье. Сшитые из остатков тканей хозяйственные сумки; из цветной прозрачной сетки в полоску, с пластмассовыми ручками; эргономичные корзинки с твёрдым дном – всё что угодно, только не авоська. А, казалось бы, сетка занимает мало места в женской сумке, почти невесомая, много вмещает, но ни у мамы, ни у тётушек авоська не была в чести. Может быть, по причине излишней открытости – явить всему миру содержимое нужна смелость. Горожанка тётя Люба вообще предпочитала сумку-трансформер из болоньи, с кожаным дном, свернув которую и застегнув на молнию по краю, можно было получить элегантный кошелёк.
Между прочим, будучи школьниками, мы учились плести авоськи. Нелёгкое это дело, я вам скажу. Во-первых, нужен специальный челнок из дерева (их нам делали наши мальчишки на трудах), во-вторых, нужно заправить толстую нить в этот челнок, в-третьих, собственно плести сеть, да так, чтобы ячейки были ровные, а узлы – крепкие и не разваливались. Готовая сеть сшивалась особым образом, наверху вывязывались ручки – и вуаля, авоська готова.
Ох и помучилась я тогда, осваивая это древнейшее ремесло! Учебные занятия проходили в конторе Промкомбината, в деревянном щитовом доме, а производство располагалось в бывшей Михаило-Архангельской церкви.
Немного истории. Эта сумка появилась в обиходе советских граждан в 1930-х годах. Авторство названия приписывают сатирику Аркадию Райкину, но действительный автор – писатель Владимир Поляков, придумавший для гениального артиста остроумный монолог: «Авось-ка я что-нибудь в ней принесу». По мне, так авоська – прообраз невода из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».
Если вы внимательный зритель, то можете лицезреть эту культовую вещь в фильмах «Бриллиантовая рука», «Солнце в авоське», «Операция „Ы“, или Другие приключения Шурика», «Стрелец неприкаянный» и даже «Гостья из будущего». Помните, Коля Герасимов в школьной форме, на плече авоська с пустыми бутылками из-под кефира, отправляется в будущее вместо похода в магазин.
Сейчас авоська культивируется как ультрамодная сумка для самых смелых дам.
Альбомы живописи
Встают эпохи, оживают лица —Художник воскрешает жизнь.На глянцевых больших страницах —Барокко, реализм, кубизм.Аналог посещенья галереи —Открытый в дивный мир альбом.Пророки, ангелы, нимфеи —Большой странноприимный дом.
Как не вспомнить фразу, ставшую почти сакральной: «Все мы родом из детства». Я, ученица начальных классов, с неописуемым благоговейным трепетом едва удерживаю в руках увесистую книгу – глянцевая бумага, обилие сочных красок – собрание живописи, именуемое в быту альбом. За давностью лет я помню только «послевкусие» от первого соприкосновения с ИСКУССТВОМ. Мировые шедевры кажутся плоскими – уровень полиграфии не может передать всей полноты реальной картины. Возможно, именно тогда и родилось желание – непременно побывать в Эрмитаже или на крайний случай (точнее, не худой конец!) в настоящей картинной галерее. Некие зачатки живописи я увидела в крохотном зальце нашего краеведческого музея: во время моего детства он ютился на отшибе и делил свою площадь с машинно-счётной станцией – тоже фантастическое и оттого занимательное место. Какие это были машины и что они там всё считали, мне неведомо до сих пор, но в школу попадали картонные карточки с непонятными ноликами и единичками на обороте – язык программирования Бейсик, если я не ошибаюсь. Достать альбомы живописи было сверхзадачей, но в нашем захолустье они почти не пользовались спросом, как подписные издания, призванные не только утолить книжный голод, но и значительно украсить шкафы в вожделенной стенке: стройные ряды одинаковых по оформлению и размеру серий – что может быть престижнее?!
Получается, первый, небольшого формата альбом «Эрмитаж» появился у нас в начале восьмидесятых. Предназначено это издание было для иностранцев, так как и заголовок, и названия картин были на английском языке, и носило скорее информативный характер. Помню, самые горячие споры вызвала картина «Танец» Матисса. Всяк смотрящий неизменно восклицал: «Хе, так и я смогу нарисовать». В эту же категорию входила «Любительница абсента» Пабло Пикассо. И тем не менее искусство рождало мысль, а вместе с ней – и яростные споры. Я же любила рассматривать картины в одиночестве. Мне необычайно нравился «Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара.
Замечу: доступнее для широкой публики были наборы открыток. Самым памятным был «Боровиковский». Рассматривать его картины можно было до бесконечности (в детстве не ощущаешь скоротечности времени). Изображения были подлинно живыми – никакая хорошо сделанная фотография, по моему мнению, не могла сравниться с изображениями на холсте кисти лучшего портретиста России.
Пройдёт полтора столетия, и я пополню свою библиотеку несколькими альбомами серии «Библиотека искусства». И получится так, что многие полотна из первого альбома увижу воочию в Эрмитаже.
Ещё ремарка: в нашей центральной библиотеке было приличное собрание альбомов по искусству (хвала централизованному комплектованию). Но использовали их только для выставок-просмотров, никогда не выдавали на дом и строго следили, чтобы фанаты искусства не захватили себе кусочек на память, безжалостно вырезав картинку для реферата или украшения стены.
Кто не делал бусы из рябины?Из космеи – накладные ногти?Как в ту пору были мы невинны.От ошибок не кусали локти.Радовались клипсам из пластмассы,Автоматике заколок и «бананам»,И браслетам дорогим из плексигласа,И бутылке запрещённой «Фанты».
Я заметила: сейчас большой популярностью пользуются броши, по крайней мере, в моей среде. Конечно, не все умеют их носить и умело, я бы даже сказала, уместно сочетать. В моём детстве брошкой обязательно украшали шапочку маленького ребёнка – от дурного глаза, ну и для красоты. У меня был янтарный жук. Вообще броши из янтаря не были роскошью. До сих пор сохранилась мамина янтарная брошь – неправильный параллелепипед с гранями, но утративший за давностью времени три висюльки – большую центральную и две маленькие. Вполне себе винтажная вещь, ещё и гарантированно янтарная.