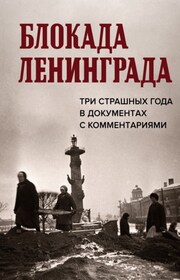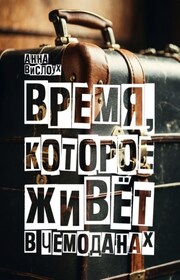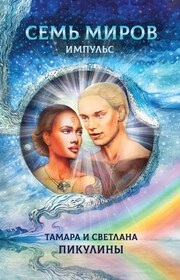На войне как на войне Вера Васильева, Александр Шумилин
© Васильева В.К. (наследники), 2025
© Быстрицкая Э.А. (наследники), 2025
© Иванова Л.И. (наследники), 2025
© Никулин Ю.В. (наследники), 2025
© Матвеев Е.С. (наследники), 2025
© Шумилин А.И. (наследники), 2025
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
© Евгений Халдей / РИА Новости
© Всеволод Тарасевич / РИА Новости
От редакции
«Сороковые – роковые» – для рожденных после Великой Отечественной войны эти строки замечательного поэта Юрия Левитанского звучат абстрактно. А вот для представителей предвоенных поколений имеют особый смысл, ибо роковые годы выпали на их детство и юность и разделили всю их жизнь на «до» и «после». Смертью близких, ужасами блокады, похоронками, яростными атаками сквозь промерзшие поля и плюющиеся смертью доты, горящими селами, горечью отступлений и радостью побед запомнились миллионам советских людей эти четыре года. Много о них написано, много рассказано, много утаено. Часто прошедшие войну щадили близких или сами не хотели снова переживать тот ужас, а потому не рассказывали нам, родившимся позже, как это было. Да и те, кто рассказывал, редко говорили о боли, горечи, страхе, чаще вспоминали удачи, затишья, счастье идти по освобожденной земле, нежность военных встреч и разлук.
Конечно, эта война для нас всех не абстракция, нечто личное, объединяющее общей болью и гордостью, ибо «она такой вдавила след и стольких наземь положила» – в каждой семье, в каждом доме есть свой герой, своя беда, своя история, связанная с ней.
Но время неумолимо, жизнь идет своим чередом, меняется мир, начинаются и заканчиваются новые войны, возникают и рушатся государства, снова и снова сильные мира сего грозят во имя своих амбиций уничтожить все. И Великая Отечественная постепенно отдаляется от нас, уходят ветераны и труженики тыла, ее ужасы, варварство, преступления заслоняются современными, не менее мерзкими и страшными. И, погружаясь в хаос нынешних тревог, мы подчас забываем, насколько длинные тени у старых грехов, живучи чудовищные теории и стереотипы, насколько глубоко дьявол может овладеть сознанием людей, не думаем о том, что многие из бед сегодняшних выросли из невычищенных ран и недобитых чудовищ той войны.
Чтобы изжить все это, очень важно, насущно необходимо ПОМНИТЬ и не забывать никогда уроки восьмидесятилетней давности. И значит, пока не поздно, надо бережно сохранить, надо рассказать все, что помнят те, чье детство и юность опалила, изломала, сожгла в своем огне Великая Отечественная война.
В этой книге собраны воспоминания людей, переживших ее. Потом, уже после Победы, они стали знаменитыми актерами, писателями, художниками. А тогда – в 1941‐м – были просто девчонками и мальчишками, чей привычный мир в одночасье разбился вдребезги. Кто-то из них вспоминает эвакуацию или ужасы московской осени 1941‐го, когда враг стоял у самой столицы, другие рассказывают о том, что пережили в оккупации, третьи – об учебе и службе на передовой, об окопном быте. И в каждом из этих рассказов смешаны боль и радость, ужас и счастье, горечь и гордость. В каждом звучит проклятье войне и убежденность в том, что подобное не должно повторяться.
Часть 1
В их юность ворвалась война
Людмила Иванова
«В войну я очень повзрослела»
22 июня у меня день рождения. Я помню, был жаркий день на даче в Лосиноостровской. Тогда любили выносить патефоны в сады, чтобы они играли для всех, на всю улицу. Мой дядя, младший мамин брат, который был в Севморпути радистом, всю жизнь с малых лет занимался приемниками, собирал их в спичечном коробке – знаете, есть такие любители. У него был приемник, и когда бабушка уходила из дома, он его вытаскивал в сад и включал на полную громкость. Так-то она ему не разрешала, а тут он был совершенно счастлив – на всю улицу играла музыка.
И вот, помню, где-то звучат мелодии – может быть, «Катюша», может, «Люба-Люба-Любушка» или «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали»… И мы обсуждаем, кого из девочек пригласить на мой день рождения, – ну, чтобы никто не обиделся, и получалось, что много, мы спорили, кого пригласить, кого нет. А потом мы с мамой пошли за конфетами на станцию, магазин был на станции. Мы перешли через мост и вдруг увидели на платформе, где висел репродуктор, толпу народа, которая молчала. Меня это поразило, потому что все молчали, и какой-то мужской голос по репродуктору что-то говорил. Мы, конечно, сразу с мамой подошли, и я услышала какие-то очень строгие слова: «Без объявления войны…», «Напали…», «Перешли границу…». Я посмотрела на маму, а у мамы текли слезы по щекам. Еще какая-то женщина рядом всхлипнула и сказала: «Война…» Мама была такая испуганная, а я сразу подумала: «Это что же, у меня дня рождения не будет? А как же я Наташу не приглашу, она же меня приглашала, и Нину тоже… А что я знаю о войне, что такое война?» Я начала вспоминать, что у нас весной были какие-то учебные тревоги в доме. Объявляли это по всему дому, и управдом говорил, что, если вы выйдете во двор, вас могут положить на носилки и унести в медпункт – не пугайтесь, это учебная тревога. И тех, кто выходил, быстро хватали, если они не успевали убежать, клали на носилки и несли перевязывать. Противогазы даже раздали. Вот это была война для меня. И потом я вспомнила, что испанские дети без мам и пап приехали в Советский Союз, и подумала: а вдруг и нас куда-то повезут без мам и пап? И спросила маму: «А конфеты мы не пойдем покупать?» Она меня дернула за руку и сказала: «Какие конфеты? Война началась!» И мы пошли домой.
У меня была учительница русского языка, наш классный руководитель, Галина Александровна Половинкина. Я училась у нее с пятого класса. Как-то я ее расспрашивала о войне. Оказывается, она окончила 10-й класс в 1941 году. 14 июня у них был выпускной вечер. А школа их находилась рядом с музеем Васнецова, это около Садового кольца. Вроде центр Москвы, а кругом сад, и весной соловьи поют, сирень цветет, и красивый терем – музей. Был у них выпускной бал, и танцевали они вальс, кто-то играл на пианино, и патефон был, и, конечно, были объяснения в любви и первые поцелуи, а 22 июня началась война. У них была большая дружная компания, 13 человек. И все они получили аттестаты с золотой каемочкой, тогда не было золотой медали, а были аттестаты с золотой каемочкой. Когда началась война, они решили идти на фронт. Немедленно пошли в райком комсомола, а их не взяли – им не было еще 18 лет, сказали, идите домой, ждите. И вскоре они понадобились: их отправили на строительство противотанковых сооружений под Вязьму. Там было очень много школьников из Москвы и Московской области. Они срезали пологие берега речек, притоков Днепра, делали их отвесными, чтобы танки не прошли. Копали и копали; конечно, первое время кровавые мозоли на руках были и есть все время хотелось. Приезжала кухня, горячее даже давали, суп с ржавой селедкой и хлеб. Они молодые были, все выдерживали, даже пели. И так они там работали почти до сентября. Немцы подошли уже совсем близко, каждый день были налеты, но почему-то их не бомбили, самолеты пролетали дальше, и там они слышали взрывы. И вот пришли военные и сказали, что надо немедленно собраться и идти пешком 50 километров. Предупредили, что идти придется без привала, в полной тишине, по лесам, по тропинкам. Ноги, конечно, были у всех стерты в кровь. Дошли до железнодорожной станции, с трудом сели в один из последних эшелонов и доехали до Москвы. Им повезло, им посчастливилось: их успели вывезти. А многие погибли там, потому что, по сути дела это был фронт. Ну а когда они приехали в Москву, то многих уже ждали повестки. И все мальчики ушли на фронт…
В войну я очень повзрослела и стала понимать какие-то важные вещи: например, в первый год войны узнала, что такое паника, одиночество, когда человек беззащитен и закон его не защищает. Это я поняла в теплушке эшелона, который увозил нас на Урал, к отцу. Он еще с довоенных времен был там в геологической экспедиции, прикомандированной к организации «Миасс-золото», которая в войну перешла на добычу циркония. Моя крайне дисциплинированная мама сделала все как полагалось: взяла один чемоданчик, бумазейное одеяло, чайник и мое демисезонное пальто. Но уже ночью где-то на остановке начали влезать люди с перинами, подушками, швейными машинками… Кричали, ругали власть. Мама смотрела на них с ужасом, а мне стало ясно, что кроме моего дома, моей семьи есть еще страна, государство и люди, совсем по-другому настроенные, чем мы. Когда поехали дальше, из Чкалова в Миасс, мы купили билеты в купейный вагон, на нижние полки. Но когда мы вошли, оказалось, что наши места заняты, люди нас обругали, проводник не защитил, и нам пришлось ехать на третьих, багажных полках без постельного белья. Но мама никогда не скандалила, сохраняя достоинство.
Я узнала о воровстве, о взятках, о дезертирах, о людях, для которых «война – мать родна». Например, когда мы ходили в лес за грибами, очень боялись встретить дезертиров – они могли ограбить, отнять хлеб… Конечно, были и другие люди, и думаю, их было гораздо больше.
Сначала папа привез нас в село Кундравы. Это бывшая казачья станица на берегу сказочно красивого озера, недалеко от Миасса. Все члены геологической партии жили в избе, в одной большой комнате. Спали на полу, у каждого рюкзак или чемодан и спальный мешок. Нам отвели место с краю.