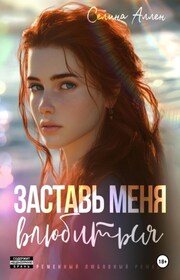Любитель Евгений Крашенинников
© Евгений Крашенинников, 2025
ISBN 978-5-0065-9718-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЛЮБИТЕЛЬ
Вдруг от книги чуть уловимый запах – и тут же исчез. И какое-то смутное – но важное же – воспоминание с ним связано; но что именно… Наклонился, повертел голову у страниц… Они желтоватые, бумага плохая, толстая… Опять промелькнуло и ушло тут же… И опять не успел зацепить и вспомнить… Вертел – голову, книгу. И – есть!! Ушинка, зима, 86-й год, кресло на лестничной клетке, читаю «Трудно быть богом»…
ДВИЖУЩИЕСЯ КАРТИНКИ
Гражданин Кейн (1941)
В детстве у нас была книга «50 загадок о кино». С одной стороны 50 заданий (в каждом 10 вопросов); если книгу перевернуть вверх ногами, то с обратной стороны читались ответы. Там в одном задании рассказывалось о том, как годы эдак в 50-е (да и книжка, подозреваю, была издана не сильно позже – в 60-е) среди ведущих кинокритиков был проведён опрос, и звание «лучшего фильма всех времён и народов» получил «Броненосец «Потёмкин». Эту картину мы смотрели. Вообще, в 70-е мой папа понимал, что если какой-то фильм, который сейчас крутят по телевизору, не показать детям, то они могут его не увидеть никогда: в Магадане был один канал общесоюзный и один местный, начинавший работу часов с шести вечера, а в кинотеатрах старые фильмы не повторяли. И когда к 60-летию революции по воскресеньям стали показывать фильмы в серии «60 героических лет», то мы садились на диване и смотрели, чтобы не упустить навсегда.
Но ведь кто-то занял второе, третье места и далее; даже в книжке были только первые десять. Но в детстве на остальных я внимания не обратил. Да и смысл… – я же не мог их никогда и нигде увидеть (кстати, несколько до сих пор, к стыду своему, не посмотрел).
А уже в 90-е, когда я уже сам руководил своим кинопоиском, в детской энциклопедии о кино (из серии детских толстенных энциклопедий в суперобложках, выходивших тогда) на одной из врезок на странице сбоку основного текста я прочитал о серебряном лауреате того опроса – фильме «Гражданин Кейн». Никогда я не слышал этого названия; никогда не слышал имени режиссёра (хотя о главной нашумевшей истории, прославившей имя Орсона Уэллса, мне рассказывал старший друг Саша Соколянский, но мне фамилия в душу не запала).
И я стал искать.
Вернее – ну как искать… Интернета не было; кинопрокат видеокассет был, но там же всё-таки были другие фильмы; в кинотеатре повторного фильма крутили что-то давнее, но даже чтобы узнать его афишу на неделю, нужно было, наверное, туда ехать…
Я ждал.
И вот однажды, зайдя в гости к друзьям из соседнего дома, я увидел в стопке видеокассет одну, на боку которой авторучкой было написано «Гражданин Кейн».
Сбылось!
Это не была фирменная кассета; эта была перезапись, возможно, не первая, а, может, и не пятая. Но – какая разница, если я наконец-то увижу фильм номер два всех времён и народов.
Я пришёл домой, вставил кассету. После титров «Гражданин Кейн» на экране показали умирающего человека, который перед смертью произносил последние загадочные слова: «Розовые лепестки» (так переводил гнусавый переводчик). А потом журналист начинал расследование, опрашивая его друзей и знакомых, стараясь выяснить, что эти слова могли значить, чем они были так важны, раз прозвучали в такой момент.
И вот тут началось удивительное. Практически с каждым интервьюируемым журналист вступал в интимную связь либо выслушивал рассказ про их интимную близость с этим покойным Кейном. Ладно бы рассказывали. Режиссёр подробно, не гнушаясь деталями, минут по пятнадцать показывал эти ситуации во всём богатстве ракурсов и разнообразии вариаций. И в конце журналист выяснял, что розовые лепестки – женщины, с которыми сводила Кейна судьба.
Я зарубежное кино смотрел мало; с киноэстетикой был знаком предельно поверхностно. Но мог отнести этот фильм к чёткой категории: жёсткое порно.
Неплохо потрудились кинокритики: первое место – «Потёмкин», второе – вот это. И мне теперь предстояло понять, какая новизна операторской работы, сценарные изыски, режиссёрские тонкости поставили «Кейна» сразу вслед за великой картиной Эйзенштейна. Не скажу, что я посвятил этим изысканиям длительное время; я забыл о фильме, но иногда возвращался к воспоминаниям, когда смотрел какое-нибудь кино, снятое до конца 50-х, и думал: «Почему же оно проиграло „Гражданину Кейну“?»
А лет через десять «Кейна» показали по «Культуре». По «Культуре»?!?! Это?! Но ведь всё-таки фильм номер два… И я решил повторить просмотр, ожидая, что, может, сейчас смогу понять основания выбора кинокритиков.
На экране показали умирающего человека, который перед смертью произносил последние загадочные слова: «Розовый бутон» (фильм был дублирован либо имел многоголосый перевод). А потом журналист начинал расследование, опрашивая его друзей и знакомых, стараясь выяснить, что эти слова могли значить, чем они были так важны, раз прозвучали в такой момент. Но… Там ничего не происходило. В том смысле, что ни у кого ни с кем ничего не было. Вернее, было, но не на экране, а как в обычных фильмах – за кадром. И вообще – фильм был чёрно-белый!
И ведь мог я при первом просмотре задуматься о том, что в 1940-м году цветные фильмы были, видимо, редкостью (вернее, на том момент я вообще не знал, что тогда было и цветное кино). Ведь мог я понять, что показываемые автомобили и одежды вряд ли могли быть в картине, ставшей лауреатом в 50-х. Хотя… я же не знал тогда – может, на Западе уже в те давние годы так одевались и на этом ездили. Обнаруживали же мы в американских кинокартинах 40-х и 50-х детали быта, которые пришли к нам в конце 80-х… Я думаю, что Вы уже поняли, что на кассете товарища я смотрел «кино», снятое по сюжету «Гражданина Кейна», но являющееся как бы пародией. То есть не пародией, конечно (его сняли не с целью посмеяться), а просто порно на сюжет известного фильма. Как могли бы снять и на сюжет «Броненосца «Потёмкина» (боюсь представить).
А «Гражданин Кейн» – замечательный фильм. О ярком человеке, жизнь которого проходит меж пальцев, как пыль песка. А розовый бутон действительно был главным в жизни.
Как зелена была моя долина (1941)
Фильм 41-го года, взявший 5 «Оскаров», из которых один за лучший фильм – опередивший «Гражданина Кейна» (!) и «Мальтийского сокола».
Режиссёр – Джон Форд, четыре раза получавший «Оскара» за режиссуру (и единственный; у того же Спилберга, например, три). Если описать парой слов: патриархальность и сентиментальность без сюсюканья. Про отношения, когда можно обнять ребёнка, не будучи обвинённым в педофилии, и сказать ласковое слово девушке без подозрений в харассменте. А того, кто будет издеваться над маленьким, не будут увещевать, а придут и дадут в морду.
При этом всё пронизано такой настоящей любовью, что проблемы и трагедии всё равно не заслоняют свет.
Кино для преобразования отношения к миру.
Оливер Твист (1948)
Сегодня – об экранизациях.
Посмотрел недавно один фильм.
Кино отличное, очень не понравилось.
Почему? Потому что к книге отношения не имеет.
А почему это важно? Потому что книга хорошая, и я её люблю.
Ну вот представьте:
У меня дочь в Питере, и я прошу её прислать фотографию на фоне каких-нибудь дорогих мне питерских мест – ну хотя бы у Смольного собора.
Она присылает фото – шикарное! Не просто фотограф, а художник сделал! Хотя, наверное, не надо обижать фотографа, приравнивая его к другой профессии: фотография сделана фотографом, и это настоящее искусство. И свет, и линии, и настроение особое…
Только на фотографии не моя дочь. Да, что-то похожее есть, волосы такого же цвета, рост примерно такой же, и даже пальто надето сходного покроя. Только не она. И Смольный собор фиолетового колора расположен в Петропавловской крепости с колокольней, которую Растрелли так и не построил.
Я, как вы понимаете, смущаюсь: э-э-э…
На что дочь мне говорит (она не скажет – это я про гипотетическую дочь): «Но фотография же классная! Наслаждайся фотографией, тут столько таланта вложено!»
Да я разве ж спорю… Просто я же хотел фотографию дочери…
Можно смотреть экранизацию и огорчаться кастингу (это неизбежно; любимое занятие – подбирать из известных нам актёров набор действующих лиц для экранизации «Швейка» или «Мёртвых душ»). Может не нравиться многое – и, в первую очередь, передан ли сам дух, атмосфера, настроение, та ли интонация (то есть материи вполне смутные). Но пырьевский «Идиот», кулиджановское «Преступление и наказание», герасимовский «Тихий Дон», уэлссовский «Макбет», куросавовский «Трон в крови», кастелланиевские и дзефиреллиевские «Ромео и Джульетта» не позволяют сомневаться, что автор очень хотел переложить на язык кино именно книгу – а дальше уже начинается интересное мыслевращение и чувствоскольжение вокруг совпадений и разрывов зрителя с автором фильма – и писатель в виде рефери.
Смотришь замечательное, талантливое, блестящее кино с великолепными актёрами, мурашки бегут по коже (реальные), голова кружится от эффекта современных съёмок, когда летишь вместе с героиней – и думаешь: ведь эта бездна выдумки, мощный профессионализм, блестящая фантазия, глубина киноязыка могли действительно стать основой фильма, который справедливо назывался бы так, как и книга.