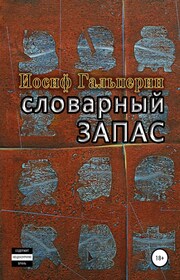Иностранная литература №10/2012 Литературно-художественный журнал
Ежемесячный литературно-художественный журнал
До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.
Журнал выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда “Президентский центр Б. Н. Ельцина”
© “Иностранная литература”, 2012
“Время сердца”
Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана
Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой, Александра Белобратова
Вступление Александра Белобратова
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin
© Татьяна Баскакова. Перевод писем П. Целана, 2012
© Александр Белобратов. Перевод писем И. Бахман и М. Фриша, вступление, 2012
Полностью книга выйдет в издательстве “Ad Marginem”.
“Любовь прекрасна, как смирительная рубашка”: два поэта, два мира, два сердца в письмах об одном чувстве
Ингеборг Бахман (1926–1973) и Пауль Целан (1920–1970) относятся к самым ярким звездам на поэтическом небосклоне немецкоязычной поэзии после Второй мировой войны.
Отличны друг от друга их поэтические судьбы и миры. Бахман приходит в литературу в конце 1940-х как поэт. В мае 1952 года на чтениях “Группы 47” в Ниендорфе, в Германии, стихи ее привлекли всеобщее внимание, а через год (на чтениях в Майнце) были отмечены литературной премией. В декабре 1953-го она выпускает свою первую поэтическую книгу “Отсроченное время”, через три года – вторую (“Призыв Большой Медведицы”), неожиданно оказавшуюся последней.
Целан как поэт начинает еще в Румынии (первые его публикации – “Фуга смерти”, вышедшая в переводе на румынский, и несколько стихотворений в немецкоязычном журнале “Агора”), в 1948 году в Вене появляется его сборник “Песок из урн”, которым сам автор остается недоволен и требует уничтожить его. Целан тоже читает свои стихи на собрании “Группы 47” – в 1952 году, в Ниендорфе, – но присутствующие реагируют весьма отрицательно и на тематику, и на строй его поэзии, и в особенности , как кажется, искусственно-торжественную, патетическую манеру чтения. Правда, один из слушателей – редактор “Немецкого издательства” – от стихов Целана в восторге, и в 1952 году в Штутгарте выходит книга стихов “Мак и память”. Его поэтические достижения несомненны и отмечены двумя крупными литературными премиями Западной Германии, Бременской и Бюхнеровской (эти премии – одну чуть раньше, другую чуть позже Целана – получит и Бахман); однако он, с 1948 года живший и работавший во Франции, в Париже, словно бы на периферии немецкоязычного литературного поля, прорываясь к читателю, может быть, в первую очередь своими немецкими переводами русской (Есенин, “Двенадцать” Блока, Мандельштам, Хлебников, “Бабий яр” Евтушенко), французской (Рембо, Валери, Сюпервьель, Шар, Мишо и др.), английской (сонеты Шекспира), американской (Фрост) и итальянской (Унгаретти) поэзии. Немецкие литературные критики более чем прохладно встречали его публикации, одни – из-за, как им представлялось, слишком навязчивой тематической привязанности стихов к проблематике Холокоста (“поэзия после Освенцима”), другие – по причине “ненемецкости” его поэтического языка и повышенной герметичности словесных фигур и образов. Положение стало меняться в самом конце 1960-х, когда пришло новое поколение читателей, и смертельный прыжок с моста Мирабо, совершенный отчаявшимся и больным человеком, стал прыжком к славе, к бессмертию.
Повсеместное признание буквально настигло Целана. Сегодня он один из самых переводимых (после Рильке) немецкоязычных поэтов (его поэтические книги вышли на тридцати двух языках мира). И самый исследуемый (после Кафки) немецкоязычный писатель: ежегодно появляются десятки статей о его творчестве, опубликовано свыше двух сотен монографий о нем. Этот “последний поэт высокого модерна” (Ольга Седакова) признан и востребован в России, с поэтической культурой которой его столь многое связывает[1].
Почти вровень с Целаном существует в современной культуре и Ингеборг Бахман. Ее “молчаливое” поэтическое слово воспринято читателями, оно звучит почти на 40 языках. В России первая подборка ее стихов вышла в том же сборнике “Строки времени”, что и целановская “Фуга смерти”[2]. Вместе представлены они и в антологии австрийской поэзии 1975 года[3]. Поэты словно бы встретились друг с другом во времени. И все чаще в работах о Бахман и Целане звучат упоминания об их поэтической и человеческой близости[4].
В 2008-м родственники и душеприказчики Бахман сняли запрет на публикацию ее писем, и в свет вышла книга, ставшая самой значительной сенсацией литературного года[5].
Эта встреча – встреча двух поэтов, двух миров, двух сердец в их личной переписке – отмечена десятками рецензий, восторженным приемом со стороны читателей, бурными дебатами “целано- и бахмановедов”, переводами на другие языки (на сегодня книга вышла уже в семи странах Европы). Ее место в культурном сознании эпохи столь же высоко, как место другой знаменитой поэтической “встречи” – “тройственной” переписки (Correspondences, “соответствий”) Рильке, Пастернака и Цветаевой[6].
В том вошли две сотни писем Целана и Бахман (с июня 1948-го по июль 1967 года), дополненные короткой перепиской швейцарского прозаика и драматурга Макса Фриша с Паулем Целаном (с 1959-го по 1961 год, в то время Бахман и Фриш жили вместе в Цюрихе) и двадцатью пятью письмами, которыми обменялись Жизель Лестранж, жена Целана, и Ингеборг Бахман (1957–1973).
В заглавие книги ее составители включили необычное, не существующее в немецком языке, но вполне немецкое по форме слово: целановский поэтический неологизм Herzzeit (“время сердца”, “сердечная пора”), в котором по-целановски аллюзивно слышны отзвуки и Herbstzeit (времени года, “осенней поры”), и Jetztzeit (“времени сейчас”, экзистенциального времени), и Hetzzeit (“времени гонений”, “времени преследования” в политическом словаре эпохи, но и – в словаре зоологических понятий – “времени гона”). Этим словом открывается стихотворение Целана “Кёльн. На Подворье”, написанное после его встречи с Бахман в Германии в октябре 1957 года, когда их любовные отношения возобновились. Но – обо всем по порядку.
Ингеборг Бахман приезжает в Вену осенью 1946-го. Ей двадцать лет, она учится на философском факультете и учится вполне основательно (в 1949 году завершает диссертацию о Мартине Хайдеггере), но ее влечет к литературе. Первые попытки опубликоваться, первые контакты в литературной среде приводят ее к знакомству, а потом и к близким отношениям с Хансом Вайгелем – вернувшимся в Вену еврейским эмигрантом, вокруг которого в знаменитом кафе “Раймунд” собираются молодые австрийские авторы. В середине мая 1948 года на одном из литературно-художественных вечеров, которые устраивались на квартире художника-сюрреалиста Эдгара Жене, Ингеборг Бахман знакомится с молодым человеком, всего несколько месяцев назад приехавшим в Вену из Румынии – вернее, сбежавшим из страны, где тогда начинала устанавливаться новая, “красная”, власть, – и пытающимся добиться литературного успеха в Вене. Зовут его Пауль Целан, он уже опубликовал несколько стихотворений в журнале “План”, выступал с чтением своих вещей, и он – настоящий поэт. Через несколько дней комната, которую снимает Бахман, оказывается усыпанной алыми маками – любимыми цветами ее нового друга. Их любовные отношения длятся недолго: в конце июня Целан покидает Вену, подарив Ингеборг на прощанье свое стихотворение “В Египте”. Ему нельзя оставаться в Вене: ведь в городе, поделенном на четыре зоны оккупации, он, бежавший на Запад бывший гражданин СССР, подвергает себя опасности. Целан уезжает в Париж, и в самом конце года, на Рождество, начинается его переписка с Бахман – полная надежд и разочарований, стремления друг к другу и отталкивания, веры и недоверия. Две личности, два характера выстраиваются в сознании читателя при чтении этих писем – две человеческие и поэтические судьбы, столь разные и столь яркие и сложные.