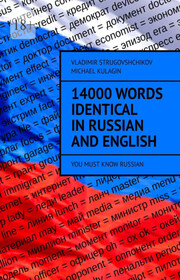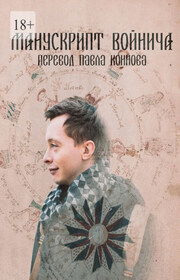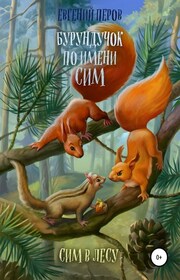Храм нашей памяти. Тюркская топонимика Евразии Эльдар Ахадов
Фотограф Dmitry А. Mottl
© Эльдар Ахадов, 2025
© Dmitry А. Mottl, фотографии, 2025
ISBN 978-5-0065-2363-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Об авторе и его книге
Эльдар Ахадов – автор около 100 книг, изданных на азербайджанском, английском, испанском, итальянском, китайском, русском и сербском языках. Почетный член Союза писателей Азербайджана (2021), член Союза писателей России (2000), член Русского географического общества (2016), член Международного ПЕН-клуба. Сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии и Африки, глава Координационного совета Всемирной организации писателей, председатель топонимической комиссии Красноярского отделения Русского географического общества.
Книга обращена ко всему, что так или иначе связано с топонимикой с момента осознания человеком окружающего мира, возникновения речи, её развития и рождения письменности. Топонимика – наша память о прошлом, о наших предках. Древние географические наименования – Храм нашей памяти. Язык любого народа не является и никогда не являлся чем-то застывшим, языки человеческие всегда изменялись, развивались, соприкасаясь с языками соседей. Они и сейчас, словно реки, перемешиваются во времени и пространстве. Топонимика Евразии чрезвычайно пестра, поскольку сложена из великого множества разных языков и наречий, мёртвых и живых. Автор рассматривает её тюркский слой среди множества иных потому, что легче различает его, ибо его предки были тюрками. Книга понадобится всем, кому дороги и прошлое, и будущее человечества.
Рождение речи
Не всё, что мы видим, действительно существует. Не всё, что действительно существует, можно увидеть. Элементарные частицы, из которых состоит всё в нашем мире, имеют не корпускулярно-волновую природу, а являются местами вибрации пространства. По сути это не точки и не волны, а микроскопические облачка вибрации. У мест вибраций нет и не может быть конкретных точечных физических координат ни в пространстве, ни во времени. Мир существует благодаря своей приблизительности и вариативности.
Рассмотрим эти утверждения на примере… музыки! Что такое звучание музыкальной речи? Благодаря систематизации издаваемых человеком звуков возникла письменная речь, наборами (слогами) которой человек обозначал какое-либо действие, событие, чувство, предмет, существо или явление в пространстве. Устная речь, как предшественница письменной, а ещё раньше неё природные звуки – предшественники музыкальной речи: шум волн, вой ветра, шелест листьев, грозовые раскаты, сход снежных лавин, треск и гул речного ледохода, громовой голос вулкана и так далее – несравнимо древнее истории и человеческой письменности, и даже устной речи.
Источниками любых звуков в окружающем нас земном мире являются вибрации воздуха. Звуки возникают, когда нечто вибрирует или быстро движется вперед и назад. Вибрирующее тело заставляет звуковые волны перемещаться через среду (воздух или воду), и в конечном итоге они достигают наших нежных ушных перепонок. Наш мозг способен распознавать, что эти волны или вибрации – являются звуками, издаваемыми разными предметами. При этом формы извлекаемых звуковых вибраций определяют то, какие звуки мы слышим! Мне часто кажется, что гениальный Иоганн Себастьян Бах владел неведомой другим тайной мироздания: Тайной вибраций.
Итак, мы слышим и слушаем звуки. Ещё до рождения какой-либо устной, и уж тем более, письменной, речи возникло восприятие живыми существами, которые в дальнейшем сформировались в людей, звуковой картины окружающего мира. Каждый день на рассвете просыпаются птичьи голоса, многие из которых мы называем певчими. Вы задумывались когда-нибудь зачем они поют? Разве ради одной лишь передачи сигналов бытового назначения (корм, опасность, страх)? Нет, конечно. Они поют от радости жизни, поют от любви к свету, поют, потому что им так хорошо, что хочется петь! От боли птицы не поют, от боли они кричат, значит, поют они от радости. Право именоваться людьми у людей возникло в то мгновение, когда они впервые почувствовали красоту мира и радость пребывания в нём вне зависимости от какой-либо личной телесной материальной выгоды, когда в них возникло чувство красоты, чувство любви и благодарности, никак не связанные с желаниями поесть или согреться.
До рождения письменности! И даже до рождения устной речи! В человеке родилось поэтическое восприятие мира. Поэтическое ощущение жизни в нас гораздо древнее словесной речи. Человек, как источник духовного бытия, в некотором образном смысле и есть причина звёздного неба! Язык поэзии, язык восприятия художественных образов – древнейший праязык всего человечества, родившийся намного тысячелетий раньше первых звуков какой-либо устной речи. Язык поэзии доступен для понимания каждому, ибо им владеет природа, на нём говорит Вселенная, на нём говорят наши чувства. И пока в мире существует хотя бы одна живая душа – он бессмертен.
Прислушаемся ещё раз. Вот рождается шорох – вроде уже не тишина, но ещё и не вполне звук. Где-то там, в дальнем сумеречном рассвете вместе с первыми птицами просыпаются поэты, вероятно для того, чтобы послушать свои стихи на их родном, птичьем наречии. На языках птичьих, простым людям неведомых, говорят поэты. Говорят, говорят и слышат что-то своё, чего никто иной слышать не приспособлен. И колдуют словами, и пересвистываются, играя паузами, как словами, нырнувшими в тишину, чтобы вынырнуть из неё иными. И вот из пространства пауз, из сумерек тишины возникает первая сбивчивая, как ребенок, становящийся на ножки, живая человеческая речь.
Язык любого народа не является и никогда не являлся чем-то застывшим, языки человеческие всегда изменялись, развивались, соприкасаясь с языками соседей, некоторые слова исчезали за ненадобностью, а некоторые иногда до неузнаваемости изменяли своему первоначальному смыслу. Не существует в чистом виде ни одного автохтонного языка, потому что подобное явление противоречило бы самому существованию человеческой цивилизации. Языки, словно реки, перемешиваются постоянно. И это явление извечно, альтернативы ему нет.
О значениях слов
На Крайнем Севере живет небольшой народ – ненцы. Я много лет работал и жил на их земле. Однажды, в музее ненецкого поэта Леонида Васильевича Лапцуя я увидел в его книге его стихотворение на ненецком языке. Стихотворение состояло из 2 строчек. Я не знаю ненецкого языка, поэтому я попросил перевести мне эти две строчки на русский язык. Мне показали книгу переводов поэзии Лапцуя на русский язык.
В этой книге на русском языке перевод стихотворения, состоящего из двух строчек, занимал две страницы! По словам первого директора музея – вдовы Лапцуя Елены Григорьевны Сусой: это был хороший, но далеко не полный перевод двух строчек покойного поэта! В ненецком языке есть много особенностей и нюансов. Одна такая особенность заключается в том, что одно и то же слово, состоящее из одних и тех же букв, может иметь 50 (пятьдесят) и более разных значений в зависимости от интонации, с которой это слово произнесено: медленно, быстро, громко, тихо, со стоном, без стона, с улыбкой, без улыбки, подмигивая, приплясывая, закапываясь в снег… и так далее.
В чём смысл книг? Смысл книг в значениях слов, из которых они состоят. Но значения слов в разных языках – разные. Эти значения почти всегда имеют скрытые оттенки произношения и смысла, которые не улавливаются в другом языке. Более того, этот смысл «загрязняется» теми оттенками смысла, которые есть в другом языке, но которых в первичном нет и не было никогда. Мало этого! В самом изначальном языке смысл одного и того же слова в зависимости от даты может быть кардинально другим! То, что в 5 веке до нашей эры означало одно, через 400 или 500 лет (например, в первом веке до нашей эры) могло означать совсем другое!!!
В тундре
400—500 лет – это очень много. Это как сейчас и во времена Магеллана! Звучание и значения у одного и того же слова могут оказаться настолько же похожими внешне и разными по сути, насколько похожи друг на друга снега северного и южного полюсов. Внешне – для невнимательного и не профессионального взгляда – они могут вообще ничем не отличаться. Кстати, если вы уверены, что в Евангелиях на самом деле сказано именно то, о чем нам рассказывают сегодня, то вы абсолютно не правы.
Нам рассказывают то, как поняли эти тексты старательные, но не всегда адекватные и разумные переводчики, жившие в другое время, в другом месте и говорившие на других, не евангельских языках, и не имевшие ни малейшего понятия ни о быте, ни о мировосприятии того автора, которого они якобы «перевели». Как смогли, так и перевели. Как поняли, так и объяснили. Что имеем, то и читаем. Как хотим, так и понимаем. То есть, не понимаем ничего и трактуем чего не знаем.
Я не утверждаю того, что знаю все верные значения. Нет. Но я категорически утверждаю, что все значения, которыми мы пользуемся сейчас, придуманы гораздо позднее изначального текста древних книг. В изначальном тексте именно этих значений в именно этом смысле, каков он сейчас, никогда не было и быть не могло!
Напоследок добавлю, что за тысячелетия меняются не только языки народов, уклад их жизни, но и географический рельеф местности, и пространственно-временной континуум. Даже рисунок созвездий, их яркость и взаиморасположение становятся иными. И судить по нашим созвездиям о том, что привлекало взгляд человека в небесах тысячу лет назад – невозможно. Реальность была иной. Всё сказанное относится и к пониманию топонимического прошлого Земли.