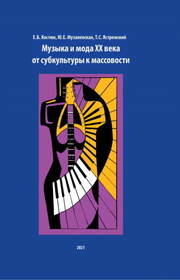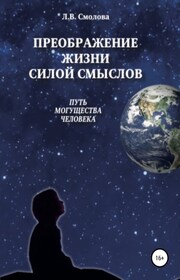Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» Пауль Паулюс
Введение
Наиболее ярким проявлением развития культурной традиции в рамках того или иного исторического дискурса являются массовые развлечения, демонстрирующие ментальные стереотипы социума в исторической ретроспективе, что прослеживается в эпоху глобализации в рамках массовой культуры, приобретающей черты интернациональной категории.
Мы обратимся к рассмотрению реализации этого концепта, рассматривая использования масштабного комплекса архетипов, характерных для североевропейской культурной традиции, условно именуемых нами «скандинавским мифом», в контексте их применения в визуализированных типах экранного искусства (кинематографе, а также продукции современной игровой индустрии). Последнее порождает включение мифологического концепта в реалии современной мультикультурной традиции и ведет за собой, по нашему мнению, формирование принципиально нового культурного концепта, фаталистического по своей природе, устойчиво базирующегося на провиденциальности как особом факторе становления нового историко-культурного пространства, порождающего феномен инструментализации предыдущих культурно-исторических практик, видоизменяющихся в глобальном дискурсе.
Научная актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью отдельных сторон рассматриваемой нами проблемы, что напрямую связано с высокой динамикой видоизменения историко-культурных реалий развития современной цивилизации и тесно взаимодействует с вопросом использования и видоизменения архетипических конструкций в рамках современного искусства, демонстрируя широчайшие коннотации данной проблемы, междисциплинарный характер которой позволяет трактовать ее в качестве одного из ключевых элементов развития новой парадигмы в развитии культуры, философии, социальных отношений и пр. Подобного рода тенденцию мы трактуем в качестве трансформации имеющихся форм культурной самоорганизации, из чего проистекает та избыточная, хаотическая социокультурная активность, которую можно наблюдать в современности1. Она напрямую связана с получившей широкое распространение проблемой культурного пространства, имеющей явные философские коннотации.
Высокий уровень теоретизации проблемы наглядно демонстрирует ее многогранность, особый пространственный контекст, «ноуменальность», как именовал ее Карл Юнг, один из создателей теории архетипов. Кроме этого, в ее рамках легко прослеживается тенденция консолидирующего порядка, подразумевающая под собой стремление создать новую мифологию как единое символически-смысловое пространство.
Своеобразной источниковой базой нашего исследования являются образцы визуализированной продукции, создаваемой носителями классического скандинавского архетипа, проецирующие всё мироощущение через творчество на различные компоненты массовой культуры, видоизменяя общую мифологему феномена мультикультурализма ввиду своей визуальной и философской привлекательности в реалиях развития коммерциализированного искусства, формируя феномен доминантного дуализма, или слияния различных структур в единое целое, порождая многочисленные образы, символизм которых сам по себе становится особым архетипом.
Проблемы идентификации базовых мифологем, определяющих самоидентификацию индивида в пространственно-временном дискурсе, являются одними из древнейших философских проблем, о чем упоминают многочисленные антропологи, изучая древнее искусство шаманов – первых исследователей природы бытия. При этом нельзя не упомянуть, что, хотя эта проблема как особая теоретическая модель представляется Платоном в его теории о существовании мира идей2, а затем его последователем Дионисием Ареопагитом3, в историческом контексте она может быть рассмотрена на примере знаменитого «римского мифа» и его последующих инструментализаций.
Рассматривая же особенности и предпосылки становления скандинавского языческого общества уже в эпоху Вендаля, можно обнаружить целый ряд тенденций, демонстрирующих использования архетипов массового сознания в политических целях, что впоследствии в значительной степени и определит интерес к вышеуказанным феноменам.
Эпоха пангерманизма породила волну интереса к рассматриваемой нами проблеме в виде изучения комплекса ментальных стереотипов и архетипов массового сознания германских народов, что повлияет на развитие юнговской теории архетипов4 как концентрированного выражения заката эпохи позитивизма. Трактовки К.Г. Юнга стали определяющими для комплексного восприятия пространства, наполненного особым содержанием – архетипическими структурами. Важным этапом развития данной теории можно считать теорию мономифа Джозефа Кэмпбелла5, заложившего основы сравнительной мифологии, активно прослеживающейся в развитии экранной культуры, базирующейся на заполнении определенного пространства контекстами и смысловыми характеристиками мифа, что формирует особую циклическую конструкцию, опирающуюся на идеи румынского историка Мирчи Элиаде, констатирующего стремление многочисленных сообществ возвратиться к мифологическому прошлому6.
Во многом пытается объединить и систематизировать большую часть этих принципов, представляя их в качестве механизмов становления как массового сознания, так и сознания и механизмов самоидентификации отдельно взятого индивида, Эдвард Эдингер, продолжающий вслед за Юнгом изыскания в области коллективного бессознательного7.
Представленные механизмы уже в начале XX столетия активно используются в кинопродукции, а также в целом ряде иных форм визуализации, демонстрируя архетипические образы мужчины и женщины в качестве базовых структур нового культурного мифа, определившего формирование современной массовой культуры8.
Рассматриваемая проблема весьма близка с вопросами, связанными с рассмотрением феномена мифа, активно используемого в рамках семиотического подхода в исследовании пространства культуры Р. Бартом9 (он трактовал миф как особую коммуникативную систему в виде совокупности коннотативных означаемых, образующих латентный (скрытый) идеологический уровень дискурса10) и К. Леви-Строссом, применявшим принципы структурной лингвистики в своих антропологических моделях11. Стоит также обратить внимание на рассуждения Л. Леви-Брюля12 и Дж. Фрезера13 по этому вопросу.
Применительно к отечественной историографии, рассматривая различные аспекты развития мифа, стоит выделить системообразующие работы Ю.М. Лотмана14, а также А.Ф. Лосева15, М.М. Маковского16, демонстрирующие природу мифа в качестве особого пространства, определяющего формирование концепта культуры на основе широкого спектра архетипов. Этому посвящены труды следующих исследователей: Мелетинского Е.М.17, Липовецкого М.Н.18, Борисова С.Б19, Чернявской Ю.В.20, Злотниковой Т.С.21 и пр.
В рамках нашего исследования активно использовались работы, рассматривающие проблему формирования и развития так называемого скандинавского мира, демонстрирующие базовые архетипы «нордического мифа», активно проецируемые в современном скандинавском кинематографе, а также индустрии виртуальных развлечений. Среди них особо следует выделить работы Тюрвиля-Петра Г., анализирующего особенности развития северных верований, оказавших огромное влияние на становление скандинавской этнокультурной традиции22, а также работы Топоровой Т.В., очерчивающей основные философские и социальные грани развития скандинавского общества через призму духовной жизни, ментальной традиции и базовых архетипов, характерных для этого региона23, что можно рассматривать в качестве развития идей Фридриха Холхаузена, немецкого исследователя 30-х годов прошлого столетия. Также стоит выделить работы Спегеля24, Гуревича А.Я.25, Мельниковой Е.26, Хлевова А.А.27, Будановой В.П.28, Стрингольма А.29 и т. д.
Не менее важным компонентом нашего исследования стала проблема философской интерпретации кинематографа, преломляющая исторический материал в русле развития массовой культуры, и ее компонента, ставшего основным предметом нашего исследования, – культуры экранной. Этот вопрос активнейшим образом рассматривается такими исследователями, как Ж. Делез30 (один из первых трактующий кинематограф в качестве особой философской категории, имеющей специфические коннотации), Куртов М.А.31, Аль-Хаким М.А.32, Арнхейм Р.33, Моля А.34 и т. д.
Обратим внимание на такое аудиовизуализированное средство коммуникации, как видеоигра, которая синтезирует в себе элементы повествования в форме кат-сцен и мизансцен, дополняемых различными звуковыми приемами выразительности, что делает их формой визуализированного контента, подобного кинематографической продукции. Вместе с тем компьютерная игра обладает рядом специфических, присущих лишь ей особенностей. Например, высокая степень интерактивности за счет применения возможностей интерфейса и навигации в «пространстве игры», что комплексно обеспечивает широкие возможности применения, анализа и интерпретации получаемой пользователем информации.
Среди широкого спектра авторов, ведущих свои исследования в подобном ракурсе, особо стоит выделить следующих: Кавер Е.Г.35, демонстрирующая концепт путешествия и повествования, являющийся основой настольных ролевых игр, активно эксплуатируемых современной компьютерной индустрией; Бартон М.