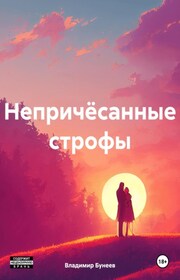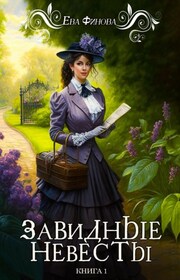Дом 13, квартира №… Сатирический роман Валерий Туловский
Редактор Дмитрий Валерьевич Юртаев
© Валерий Витальевич Туловский, 2018
ISBN 978-5-4490-4823-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВСТУПЛЕНИЕ
Человек – это звучит вздорно…
Если волею случая судьба подвалит вам счастье побывать в городе Белосовковске, вы не сможете не заметить дом №13 по Большому Совку. Почему демократическая мэрия подобрала бывшему проспекту имени Ленина такое необычное, загадочное и никому до сей поры непонятное название – история умалчивает. Ходят слухи, что приёмный сын троюродного брата внебрачной дочери Владимира Ильича Ленина имел отрока, весьма неравнодушного к женщинам и отъявленного плута. Сей отпрыск обесчестил дочь сапожника, молоденькую девушку, ставшую впоследствии бабушкой г-на Карасенко, первого за всю 620-юю историю города демократического мэра. В пятьдесят с хвостищем лет мэра Карасенко позор его стал всенародным достоянием, чего сам большой чиновник вынести не смог, а посему итогом стало переименование проспекта Ленина в малопонятное словосочетание Большой Совок. Не проспект, не улица, не переулок, а просто – Большой Совок.
Свидетели экстренного заседания мэрии, состоявшегося на второй день после выборов Карасенко, поговаривали, что заседание проходило в бурных дебатах, в острой, конструктивной, демократической обстановке, с множеством речей и полезных реплик. Как и в случае выборов на пост мэра, когда был один единственный альтернативный претендент – Талаш Деревенько, директор поныне действующего завода по производству порошка против тараканов – так и в обсуждении вопроса о переименовании проспекта, была создана здоровая конкуренция. В результате «Большой Совок» был утверждён, поскольку «улица лошади Пржевальского» была отклонена. Главными серьёзными доводами оппонентов являлись: во-первых, в морду эту лошадь никто из присутствующих никогда не видел; во-вторых, если её никто не видел, то не исключено, что лошадёнка ничего хорошего из себя не представляла; в-третьих, мог произойти конфуз, если лошадка настолько неприглядная, что ей вовсе невозможно будет поставить памятник из средств городской казны. А ведь средства на памятник были уже заложены, но кому ставить монумент – оставался открытым. Четвёртым аргументом спора являлось: с какой буквы, большой или маленькой, писать слово «лошадь», если вдруг неведомое животное всё-таки одержит победу над «Большим Совком». Пару бывших учителей, недавно оказавшиеся народными избранниками, сумели-таки доказать, что улица лошади Пржевальского – это неграмотное решение вопроса. Первое: улица не может быть лошадиной, так как не является собственностью (купленной или приобретённой каким-либо иным способом) самой лошади. Здесь следовали ссылки на документы, что улица действительно не продавалась, по наследству не передавалась, да и строилась не лошадьми. Второе: лошадь Пржевальского – это иностранное животное (про сей факт напомнил учитель истории и бывший партийный работник Козлевич, чем навлёк на несчастную лошадёнку бурю депутатского негодования). Выпив стаканчик «Пепси», он даже предложил вынести вердикт по этому обстоятельству, и отправить копии документов в посольства США и Китая, дабы указать международному сообществу: нечего иностранным империалистам хвастаться, якобы мы перенимаем у них всё, что попало. Пусть капиталисты ведают, что их лошадь никогда не обесчестит своим именем главную улицу любимого города. Впрочем, это предложение не приняли, так как некоторые народные избранники усомнились: какое же из государств является исторической родиной несчастного зверя, не монгольских ли кровей лошадёнка? Третий аргумент против лошадки оказался самым веским: если название улицы или проспекта следует писать с большой буквы, то получается, что какая-то лошадь – невзрачная и паршивая, наверное, на вид – будет ассоциироваться с главным проспектом замечательного города! Разве можно допустить, чтобы слово «лошадь» писалось с большой буквы? Депутат Громогласов был всегда весьма активен на заседаниях, а посему внёс предложение: назвать проспект Ленина проспектом Пржевальского. После небольшого минутного молчания, в период которого депутаты усиленно припоминали, кто же всё-таки такой сам Пржевальский, предложение было окончательно отклонено. Решили, что лошадь именем хорошего человека не назвали бы, хотя само по себе животное и неплохое, но лягается и может укусить своими жёлтыми зубами. Весомую лепту в поддержку Большого Совка внёс депутат от партии «зелёных» товарищ Одуванчиков. Он подал протест, в котором заявил, что нельзя именем лошади называть самую грязную улицу в городе, ведь лошадь не виновата…
Проголосовали единогласно, и через два дня напряжённой и кропотливой депутатской работы бывший проспект имени Ленина стал называться для всех несколько загадочно и странно – Большой Совок.
Большинство горожан, как всегда, спокойно и безразлично отнеслись к переименованию. Не высказалась и интеллигенция. Не стали возмущаться и удивляться и жильцы дома №13. Как истинные патриоты своего родного города Белосовковска, они с благодарностью и пониманием восприняли инициативу мэра и решение депутатов. Нечто родное и знакомое в названии бывшего проспекта насыщало их сердца гордостью.
* * *
А дом как стоял, так и стоит, ничем не выделяясь среди остальных жилых коробок. В нём люди проводят свободное от работы время, кормятся, иногда плодятся, а иногда умирают. Чёртова цифра дома никак не влияет ни на судьбу дома, ни на его обитателей. Двухэтажный, кирпичный, с когда-то покрашенными в коричневый цвет входными дверями, он разделяется на два подъезда, три квартиры на каждом этаже и, соответственно, на двенадцать квартир вообще.
Можно много говорить о доме, о жильцах, можно славословить людей, можно хулить. Однако лучше заглянуть в каждую квартиру, а затем решать – кто они, жильцы-соседи, чем занимаются, дышат…
Так и сделаем. Всунем свой нос в город Белосовковск, Большой Совок, дом №13, квартира…
КВАРТИРА №1
В первой квартире существовали люди простые, рабочие, как и подавляющее большинство города Белосовковска…
Тот день для Ивана Савраскина начался обыденно: Ваня доплёлся до работы, похмелился, перед обедом «принял на грудь» для аппетита, а по истечении трудового времени, вместе с напарником «разрушил» традиционную бутылочку. Пару «соточек» во время перекуров, опрокинутых наспех и без кусочка сухарика, можно не считать – несерьёзно.
Наверное, явился бы передовик производства и обладатель двух почётных грамот к жене и детям весёлым и бодрым. Однако… как это частенько бывает, по дороге встретил старого друга. Давно не виделись – месяца два, потому решили отметить это знаменательное событие. Не в деньгах счастье, а в их количестве – давняя истина. Количество у товарища оказалось таким существенным, что Савраскин после прогулки по парку, где он долго и душевно беседовал с приятелем, изредка запивая очередной анекдот или сплетню бесцветной горячительной жидкостью, уже ничего не помнил.
Очнулся Иван от непонятного шума. С тяжестью открыл один глаз и удивился: всё вокруг белое, ни одной цветной точки. Ещё большего усилия понадобилось для второго глаза. Вновь белым-бело. Только тогда он сообразил, что чем-то накрыт.
«Где я?» – желал крикнуть Савраскин, однако губы и язык словно слиплись между собой.
Ваня решил вспомнить, что же произошло после работы, но в голове шумело – ни одной мысли. Пробовал пошевелить рукой или ногой – напрасно, что-то их держало. Напрягая глаза из последних сил, посмотрел на руки…
«Батюшки, так они связаны на груди! С чего бы это? – подумал Иван и обомлел от догадки. – Я умер!.. Но почему тогда глаза открылись?»
И тут он вспомнил, что ему кто-то рассказывал: покойник видит и слышит, только разговаривать и двигаться не может. Всё сходилось.
Неожиданно неокрепшие мысли Савраскина оборвались, когда ему послышался глухой неразборчивый бас. Голос становился сильнее и сильнее. Иван отчетливо услыхал слова молитвы.
«Не ошибся. Так и есть – „ласты склеил“. Застыла кровушка в жилочках, задубели рученьки и ноженьки, в глазках сплошная пелена. Бедный я Ванечка, на кого покинул жену и деток? А кто теперь даст план заводу? А кто водочку пить будет?.. Вот идёт Бог и сейчас решит: в рай меня отправить, или в аду предпочтёт мне место», – думал Савраскин, пытаясь вымучить из себя слезу; но не получилось – покойники не плачут.
И вдруг перед глазами это нечто белое задвигалось, зашевелилось и… всё стало предельно ясно: Ваня был накрыт простынёй. Однако происходящее отнюдь не обрадовало, а наоборот – от страха он зажмурил глаза.
«Сомнений не осталось – сдох!» – подвёл итог обладатель двух почётных грамот, видя над собой бородатое лицо священника. – Простынёй накрывают мёртвых людей, причём, накрывают с головой. А батюшку позвали, чтобы меня отпевать».
Почувствовав, что на лоб нечто капает, Савраскин слегка приоткрыл один глаз. Батюшка по-прежнему стоял над ним с большой кистью в руке и, не прекращая читать молитвы, кропил Ивана водой. Немного поодаль располагались жена и оба сына с зажжёнными свечами в руках.
«А у жены лицо печальное, – приметил Иван. – Страдает, наверное, что без кормильца осталась; а сама раньше ни разу мне даже стопочки не поднесла, не сказала: выпей, мол, Ванюша сердешный, легче станет. Теперь на поминках за мой счёт пить будет… И сыночки хороши: папа такой, папа сякой, а сейчас стоят, опустивши головки, жалеют папку».