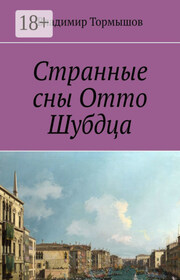Дневник мамы Виктория Карелина
Родители
Повинно в этом раннее сиротство
Иль, может в том есть и моя вина,
Не уточнила с дедами я сходства,
Прапрадедов мне темны имена…
В одном лишь не могу я усомниться,
Все родичи мои – спокон веков!
Гатили топи, сеяли пшеницу
И Русь обороняли от врагов…
Ни в летописи. Ни в громкие былины,
Он не был вписан,
Мой безвестный род.
Но он уходит в тот массив глубокий,
Название, которому – народ!
Л.Татьяничева
Псковская земля – уникальный, единственный уголок России, где еще остались в чистом виде традиции славянского народа – кривичей.
Даже названия деревень, поселков, городов в большинстве своем не изменились за многие века прошедшей истории. Это – Беженцы, Усвяты, Дедовичи, Невель, Опочка, Остров, Врев и др.
Много героических дел совершилось на Псковской земле за ее многовековую историю. Псковичи всегда были мужественными воинами и тружениками. Достойно встречали недругов на ледовом побоище, и при нашествии фашистских орд. Псковичи защищали честь своей Родины и право на жизнь для себя и для своих потомков.
Есть на Псковщине река Великая. С левого и правого берегов в нее впадает много речек и ручьев. Великая – главная река Псковской земли. Издавна, может быть с 6-7 веков нашей эры или еще раньше, поселились здесь славяне – кривичи. Постепенно обживали они землю, защищали ее от набегов недругов. Берегли свою землю «как зеницу ока», украшали городами и посадами.
Уже в 8 веке известен был главный посад этой земли – Плесков – Псков. От него расселились кривичи в разные стороны. Границы Псковской земли соприкасались с другими землями и народами: эстов, латышей, литовцев. Граничили кривичи с полочанами, словенами, вятичами.
На границе с Латвией в маленькой псковской деревне Киренки, недалеко от впадения рек Лжи и Утрои жил мой прадед Максим. Река Утроя несет свои воды в реку Великая, а та – в озеро Псковское.
По сей день живет в народе сказ о двух сестрах – Утрое и Лже. Передается он от поколения к поколению. Слышала о нем и я.
Говорит он вот о чем.
В Латышской земле было болото. Оно было большое, глубокое и непроходимое. Две дочери росли у болота – Утроя и Лжа. Жалело болото своих дочерей, оберегало их и запрещало подходить к краю твердой земли. Не хотело болото, чтобы дочери увидели зеленую траву, деревья, солнышко.
Болото говорило своим дочерям:
–Не выходите на берег, а то солнышко высушит вас и ничего не останется. Подумайте, как же я, старое болото, буду жить без вас. Пожалейте меня. Если не послушаете, всем будет плохо.
Сестры были молоды, говорливы, им надоело жить в болоте. Но они слово дали матери, что не оставят ее, будут помогать ей крепить болотную мощь.
Прошло время. Сестры стали совсем взрослыми. Навалилась на них тоска и кручина. Они все чаще и чаще приходили к краю болота смотреть на берег, зеленую траву, лес и луга. А солнышко, если приходило с ними встречаться, очень радовало сестер. Они тогда одевались в нарядные платья и каждая струйка воды блестела всеми цветами радуги. Большей радости, чем встреча с солнышком, они и не знали.
“Ой, как хорошо!” – говорили сестры и отдавали свою благодарность зеленым лугам, лесам и солнышку.
Долго сестры помнили данное матери обещание и возвращались в свои болотные замки. Но скоро им опять становилось грустно. Они ждали часа, когда можно будет встретиться с берегом, с солнышком, с зеленой травой.
Вот однажды, рано утром просыпается Утроя в своем дворце и видит, что сестры Лжи нет. Заметило пропажу и болото. Сразу догадалось, что Лжа убежала из дома, нарушила свое обещание, не послушала мать. Плача и причитая, болото посылает в вдогонку дочь Утрою и велит вернуть домой обманщицу.
В тот же миг Утроя вышла из болота и потекла за сестрой. Быстро догнала ее, стала уговаривать вернуться. Но Лжа и слышать не хотела об этом. Старалась преодолеть разные препятствия: горы, пригорки, заливные луга, леса, чтобы подальше уйти от сестры и не слушать ее упреков и уговоров. Скоро беглянка истратила свои силы, стала течь медленнее и не сумев преодолеть очередное препятствие, влила свои воды Утрою.
Утрое понравилось быть свободной рекой. Она не захотела возвращаться в болото, впереди было столько неизведанного и интересного. Сестры договорились идти дальше вместе.
Так и текут они по сей день, несут свои воды в реку Великую.
Болото очень страдало, ему было трудно сохранить без дочерей свои силы. Оно стало меньше в размерах. Появились в его пойме небольшие островки. Их стали посещать люди. Как-то рассказало болото людям о своей беде. Люди одну из дочерей назвали – Утроей (Утренняя река), а другую Лжой. Так и сейчас зовут эти реки.
Лжа – река небольшая, но сильная. Вода в ней черная, течения как бы не заметно. Она как будто стоит на месте. Зовут ее коварной рекой. Много в ней разных водоворотов, ям. Берега реки неровные, размытые, но интересные.
В Утренней реке, Утрое, вода светлая, течет быстрее, по ровной местности, весною разливается, выходит из берегов, тогда шутить с нею опасно.
Долго реки Лжа и Утроя текут почти параллельно друг другу, а потом Лжа впадает в Утрою.
Это моя Родина. Она часто снится. Мне кажется, что лучше, красивее, приветливее больше нет уголка на земле.
В нашей местности люди передавали легенду, что один из предков моего отца был очень богат. Жил в деревне Гривы. Имел невоздержанный характер – гулял, задавал пиры, чем-то провинился перед начальством и был лишен чинов и богатства. Потомки его стали крестьянами, имели небольшие наделы земли, обрабатывали ее и этим жили. В наследство от отца мне досталось Евангелие, изданное до революции, где на первых страницах написано – Максим Максимов. Не прадед ли мой Максим писал это своему сыну Егору, а тот передал его моему отцу.
Отец мой родился в 1892 году в Псковской губернии, Островского уезда, Рубиловской волости, в деревне Киренки, в семье крестьянина Егора Максимова. Семья была очень большая. У бабушки родилось 13 детей, из которых только семь человек остались живы.
Старшему сыну, Федору Егоровичу, в 1892 году был 21 год, а младшему, Ивану Егоровичу (моему отцу), был один день.
Вовремя Столыпинской реформы дед мой с семьей был выселен из деревни на хутор. Хутор им достался на болоте, где жили медведи и волки.
Все ругали это место, потому что, на этой земле не рос хороший урожай хлеба и картошки. Земля была болотистая, заросшая кустарником, но такая дорогая для меня.
Построил дед избу в три окна, с темными сенями, задним и передним крыльцом. Крыльцо с высокими ступенями. Позже, через 15 лет, построили еще одну избу, такую же, но без сеней. Строили из бревен, срубленных здесь же. Дед рассчитывал, что у него два сына и каждому нужен свой дом.
Рассказывал мне мой отец, что, когда рыли подвал под избой, на большой глубине нашли глиняный горшок, а в нем много серебряных монет времен Ивана Грозного. Дед сдал его в музей и получил за это деньги, которые пригодились для строительства. Как попал этот сосуд в необжитую местность – трудно сказать. Иван Грозный вел в этих местах долгую Ливонскую войну. Клад, по-видимому, остался здесь после нее.
Эти древние места давно были обитаемы. Селились на них русские люди, часто испытывали горе и нужду от недородья, бедной природы, многочисленных войн. Так как богата эта земля, только болотами, да лесом.
Недалеко от нашего хутора раскинулись большие помещичьи усадьбы – Лосевых, Голубовых и еще чьи-то. Имения располагались в километрах пяти друг от друга, и все окрестные деревни принадлежали этим помещикам. Дома землевладельцев размещались в красивых местах, на берегу речки Утрои.
Люди говорили, что имения эти были очень живописны, с красивыми большими садами и мраморными лестницами, спускающимися к реке. До моей сознательной жизни они не сохранились, их разрушили в революцию, а хозяева сбежали за границу. Земля эта теперь принадлежит государству.
Семья моего деда сеяла в основном лен, так как хлеб на этой почве родился плохо, и его садили лишь для того, чтобы можно было прокормиться. Бывало так, что хлеб совсем не родился, тогда лен выручал. На урожай льна была вся надежда семьи.
Недалеко от дома были вырыты неглубокие прямоугольные мочила (пруды), в которых мочили лен, потом расстилали его по полям, сушили на солнышке. Он отбеливался и становился мягче. Работы со льном было много. Трепанный и чесаный лен возили далеко, даже в Польшу и Германию. Продавали там, получали деньги на жизнь. Почвы болотистые, подзолистые требовали удобрений, а их в большом количестве взять было негде. Часто. на вырученные от продажи льна деньги, покупали зерно.
Лен для продажи дед возил по санному пути зимой в Латвию и Польшу. Продавал его там и покупал все необходимое в хозяйстве. Привозил много гостинцев внучатам и домочадцам, приезжал домой навеселе, горланил старинные русские песни на всю округу. Больше всего дед любил песню «Гром победы раздавайся». Когда он пел, все в доме затихали и прятались.
Дед не был буяном, но никто не хотел с ним связываться, когда он был во хмелю. Самым излюбленным его ругательством было: «Ах ты рог кривой»! Он очень часто повторял эти слова на своих близких, в поле, на работе, ругал так скот, использовал в разговоре с людьми.
Земляки прозвали его «Рог кривой», а потом стали звать Рогов. Старший сын Федор Егорович, не признавал такого прозвища и обижался, когда его называли Рогов. Не любила это прозвище и я. Меня в детстве сверстники дразнили: «Рог, да рог»! Но как бы то ни было, кличка утвердилась и стала нашей фамилией.